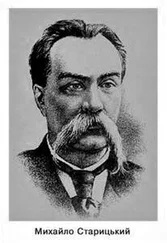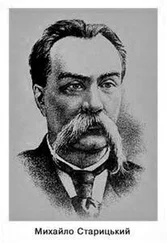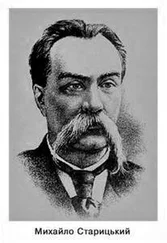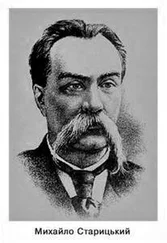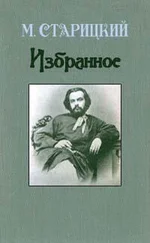Больной зашевелил бескровными губами и начал что-то шептать. Ликера вся обратилась в слух, но сначала трудно ей было уловить в этом клокочущем шепоте слово, а потом, хотя шепот стал и яснее, смысла его не могла понять дивчина, — только иногда вздрагивало у нее, как на ноже, сердце.
— Не могу, — шептал то торопливо, то затягивая и удлиняя слова Харько, — простите. У меня там далеко невеста… она выплачет свои очи… изведет свое личко журбой, я присягал ей… Господи, что вы со мной творите? Я вас поважаю… молюсь на вас, а кохаю там… ту… У ней и у матери я… Они ждут меня, как рассвета в зимнюю долгую ночь. Возненавидите меня? Да на что я вам? На жарт и на прихоть?.. Бог вам прости!..
Больной стал дальше беззвучно лишь шевелить губами и смолк; но потом вдруг весь затрясся и стал говорить с возрастающим волнением, быстро, возбужденно:
— Не поеду… ни за что не поеду… убейте меня, а туда не поеду! Зачем поите? Что же это? Насильно заливать? Чего смеетесь, что я красная девушка? Разве в этой пакости товарыство? Ой, не глумитесь!
Он смолк и долго лежал, едва дыша, словно одним лишь горлом, а потом снова заговорил, силясь открыть тяжелые веки:
— Боже мой, какой я паскудник. И голос, и силу, и совесть — все обобрали, ограбили! Ой! — не то вскрикнул, не то простонал Харько и открыл наконец глаза. — Воды! — уронил он едва слышно, но уже совсем другим голосом.
Ликера вздрогнула, бросилась в сени и, набрав из ведра в кухоль свежей воды, поднесла его торопливо больному. Приподняв одной рукой его голову, она стала осторожно поить своего Харька, а тот, прильнувши жадно к кухлю устами, остановил изумленные глаза на Ликере, и вдруг в них вспыхнула и стала разгораться искра сознания.
— Ликера, ты ли? Где это я? — вздрогнул он, оторвавшись от кухля и отшатнувшись от дивчины.
— Я, я! Харьку, мой любый! — вскрикнула Ликера и почувствовала, как повернулся нож в ее сердце; что-то горячее переполнило его, поднялось к горлу… и из глаз ее брызнули наконец слезы. — Я, я, счастье мое, раю мой! — шептала она, припадая к нему, целуя его в уста, в щеки, в глаза, рося его обличье горячими каплями слез.
Харько, хотя и слабо, отвечал на ласки своей дорогой суженой, но с каждым поцелуем ее в нем пробуждалось, крепло и едва мерцавшее пламя жизни. Сознание становилось ясней.
— Квиточко моя, ты узнала меня? — спрашивал, оживляясь, Харько.
— Узнала, как не узнать своего сизого голубя? Да выколи мне глаза, я бы тебя и сердцем познала! — ворковала она, улыбаясь сквозь слезы и согревая своими горячими поцелуями его холодные руки.
— И не забыла? Кохаешь? — склонил он на плечо ей свою голову и начал чаще дышать.
— Господи! — только всплеснула руками Ликера и занемела.
— Ой, стою ли я? — простонал, метаясь, больной. — Прости мне, моя подбитая горлинка. Занапастил я и себя… и твой век… погубил твои радости!.. Забудь лучше меня, завалящего, дохлого, твой век впереди.
— Цыть, Христа ради! Никого. Один ты. Весь свет в тебе!.. Без тебя на что мне эта жизнь? На муку, на тоску беспросветную!.. Тобою только жила, тобою только дышала… Вот услыхала от тебя ласковое слово — и свет мне поднялся, и нудьги словно не было, а уж как она точила, как грызла!..
— Ох, господь сглянулся… привел меня под родную стриху… дал обнять тебя… может быть, и силы вернет?
— Вернет, вернет милосердный и пречистая дева, — подняла она к иконам полные слез глаза и сжала у груди руки.
В это время вошла в хату старуха и, услыша голос Харька, бросилась, заволновавшись, к больному.
— Мамо! — вскрикнула Ликера. — Харько ожил.
Потрясающий вопль, полный радости и накипевшей муки, вырвался из груди матери.
— Дытыно моя! — вскрикнула она и как безумная припала к груди своего сына.
Больной вздрогнул, затрепетал и с страшным усилием при помощи Ликеры подвелся и обнял свою неню.
— Мамо… бесталанная… роднесенькая, — заговорил он, задыхаясь от волнения и осыпая ее сморщенную шею лихорадочными поцелуями. — Ох, какое мне счастье! Не выдержит его грудь… Поневерялся там, побивался за вами… Ой, и какая же это была тоска!.. Смеялись над ней… хлопской дурью дразнили и мучили… Гляньте, каким я вернулся!
— Будь они прокляты, кровопийцы, харцызы! — заговорила было Устя, но сын остановил ее.
— Не проклинайте, мамо! Господь им судья! Там тоже есть и жмыкруты-кулаки, есть и бездольные да голодные… а на голоте везде ездят… и топчут ее под ноги везде. Такая уж, видно, доля моя: вырвали из родного поля былыну, пересадили на чужой грунт… ну, и усохла.
Читать дальше