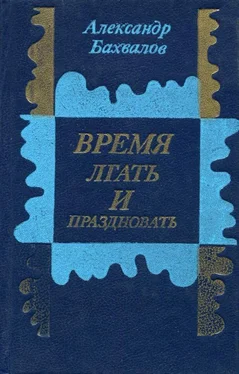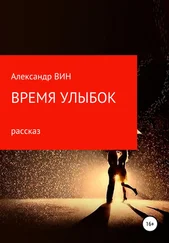Тут же открылось, что он знает, кто она — видел с Нерецким, когда в прошлом году он приезжал за ней сюда — она была у Людки на новоселье. А запомнил потому, что знает Андрея, даже находится в отдаленном родстве с ним. Такие вот дела. Глупо было сочинять басни о ее теперешнем появлении у дверей Людкиной квартиры. Зоя рассказала все, как на духу. Стало немного легче. И понятнее: слова соорудили из происшедшего нечто такое, на что можно взглянуть со стороны. И хоть «мысль изреченная есть ложь», другой упаковки ей не дано. И слава богу, не то с ума сойдешь.
За время болезни Роман расставил мебель, выбросил магазинный ящик от телевизора, приподнял его на ножки — так, чтобы ей было видно с лежанки, и комната обрела вид гостиничного номера-люкса. Глядя утром на снующего среди этого порядка Романа, не знающего, чем ей угодить, она думала:
«Ситуация разрешилась, как говорят режиссеры. Все встало на свои места. Так уж очеловечено совокупление… Ну, хоть так». И это не только не казалось ей унизительным, греховным, но оставалось в стороне от смысла постигшего ее несчастья. А как иначе?.. Принимать заботы незнакомого человека и притворяться, что не знаешь, из каких побуждений тебя обхаживают?..
Все утро Зоя была спокойна тем зыбким спокойствием оглушенного, которое хорошо определяется чувством, с каким говорят: «Да пропади все оно пропадом!»
Оставшись одна, достала с полки толстую, сильно потрепанную «Угрюм-реку» и все с тем же расслабленным чувством покоя читала, бросала, пила чай с медом и каждые два часа спускалась звонить Нерецкому из телефонной будки на углу дома. И совсем уже уверилась, что он уехал, но, спустившись в последний раз, ближе к вечеру, услышала его голос… Он так ошеломил ее обликом недавней жизни, выражением утерянного, что она судорожным рывком отдернула трубку, прежде чем повесить.
«Ужас какой, господи!.. — звенело в голове. И она посмотрела на себя, как забыла смотреть из-за враждебности к горю и болезни. — Что я натворила!..»
Она шла по улице куда глаза глядят и тихо выла от жалости к себе, непригодной ни к какой другой жизни, кроме как в чужих костюмах.
Она оплакивала уверенность, с какой жила, чувствуя е г о любовь, как чувствуют молодость, здоровье, солнечное тепло!.. И еще — многое из того, что осталось за голосом в трубке и чего она не в состоянии была объяснить. Это было украденное у самой себя доброзначное чувство принадлежности к красоте мира, которое приходит от покоя и юношеского света в душе.
Неужели все?.. Может быть, рано отчаиваться? Может быть, со временем все уладится, они истоскуются друг по другу — разве по ней нельзя истосковаться? — сойдутся и заживут по-прежнему, как это бывало в тех историях «из жизни», в которых она не однажды жила понарошку?.. Но чем отчаяннее надеялась, тем очевиднее становилось, что им не сойтись. И не только потому, что это немыслимо для него — для нее тоже. Не уличи он ее, не застань раздетой в чужой квартире, куда — а н е к с е б е д о м о й — она приехала после разлуки с н и м, она, наверное, сумела бы простить себе это бегство в прошлое. Теперь не сможет. Вот где бездна.
В той потаенной, не стесняемой никакими условностями жизни, какой она жила наедине с собой, непредумышленные свидания мужей не с женами, а жен не с мужьями совсем не казались чем-то недопустимым. Почему бы нет. Почему из прихоти не потратиться на пустяковую или вовсе ненужную вещицу и забыть о ней. Но одно дело вот так отвлеченно оправдывать прихоти и другое — после того, как выставишь себя на позорище со всеми своими прелестями.
Что же теперь?.. Она пыталась представить себя женой какого-нибудь актера из теперешнего окружения, и в животе гадливо шевелился ужас на паучьих лапках. Ее роль в этом «обусловленном сожительстве» состояла бы из каждодневного унизительного подыгрыша мелкому и грязному в существе своем тщеславию. Ей ли не знать, на каких задворках, в каком мусоре может погрязнуть жизнь человеческая, вся жизнь!..
Наглядный тому пример — травести, которую вдруг вызвали на пробы в московскую киностудию, — сокурсник замолвил слово, — и в предвкушении взлета на олимп она первым делом, ни секунды не колеблясь, оборвала беременность. Вышло с осложнениями, уехала больная. А пробы не утвердили, не понравилась. В студии — киношникам, по возвращении — мужу. Бросил. Не способна рожать, зачем такая. Помыкалась-помыкалась и сошлась с пожилым оболтусом — литавристом оркестра, известным склонностью фотографировать альковные сцены своих романов. Называл это лирикой и охотно показывал желающим. И с травести первым делом нащелкал кучу «лирических эпизодов». «Вот мы на картошке, вот на Юрке, вот на диване, а это — с ее мужем…» Вокруг хихикали, лицемерно корили за цинизм, но никому он не казался полоумным, его принимали во все компании, выбирали в какие-то комитеты. Сама же травести никого не занимала, никому не было дела до того, ч т о она получила взамен вырванного из утробы ребенка, взамен материнства.
Читать дальше