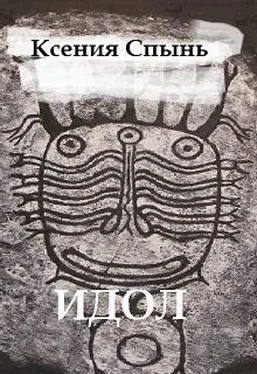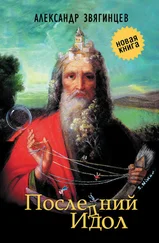— Какой я поэт… — впервые, может, за весь разговор Лунев окрасил свои слова интонацией — интонацией горечи и разочарования. — Я даже не человек. Я никто. Если когда-то и был поэтом, то с этим покончено.
Он отвернулся на дверь, за которой шумела наползающая на их стоянку вьюга. Неожиданно тоска проснулась в нём — тоска по тому, что (он ясно ощутил сейчас) он потерял. Все небывалые, полные тайн миры, в которых он бродил когда-то, исчезли без следа; перед ним был только узкий тоннель, такой, что не повернёшься даже, крохотная точка света далеко впереди, и ничего по бокам. Всё убрано. Почти всё.
— Раньше стихотворения приходили ко мне, — сказал он вслух. — Сейчас никто не приходит. Я один. Я перестал их слышать, а это навсегда.
Семён покачал головой.
— Они появятся ещё, — заверил он. — Если так было, то один раз всё вернётся и станет по-прежнему. Вот посмотришь.
Зачем, зачем он говорит о том, о чём не имеет ни малейшего понятия? Что он может понимать, этот человек? Что он знает о творчестве, вдохновении, голосе других миров? Разве разговаривали они с ним когда-нибудь? Разве знаком он с непередаваемым ощущением, с которым бродишь по чужим незнакомым вселенным, без правил и осторожностей, не боясь заблудиться? Что, в конце концов, может он знать о внутреннем мире Лунева, о том, что там происходит, что ломается и что во что перетекает? Кто может знать об этом лучше самого Лунева? А если и сам он не знает практически ничего, разве может кто-то понимать хоть немного?
Так как споры о точках зрения и внутренних ощущениях были бессмысленны, ибо ни к чему бы не привели, Лунев прибег к аргументу другого круга:
— Зачем я им в столице? В конце концов, я написал антиправительственное стихотворение, я нелицеприятно отзывался о правителе лично, я ненадёжный, потенциально опасный субъект. Какой смысл им возвращать меня из ссылки? Чтобы создать себе дополнительные проблемы?
Семён многозначительно закивал:
— Именно затем, что ты был для них опасен. Они, конечно же, захотят убедиться, что это больше не так, что они тебя обезвредили. Им надо будет удостовериться. Ферштейн?
Отголосок немецкого в речи другого человека странным образом подействовал на Лунева. Он поднял глаза и в приливе полного доверия воззрился на собеседника.
— Почему… Почему вы все так в этом уверены? — спросил он немного погодя.
— Значит, не я один? — Семён беззвучно рассмеялся. — Это неспроста. Как думаешь, Лексей, если уже несколько человек, отдельно один от другого, твердят тебе, что ты будешь в столице, не значит ли это, что есть реальный повод так думать?
Лунев помолчал.
— Даже если и так. Если случится, как вы говорите, — его голос опять потерял всякую интонацию. — Что ж… Вернут… Убедятся, что всё, как они и полагали. На что и рассчитывали. Всё, они победили. Я не поэт больше.
— Поэт, — убеждённо кивнул Семён. — Если был поэтом, им и останешься. Придёт время — и ты восстанешь. Это — по натуре, в природе твоей. Такое не теряют.
«Не теряют». Эти два слова эхом отозвались в глубине, далеко внутри сущности Лунева, и ему захотелось вдруг верить им, верить жадно и безрассудно. Не теряют. Возможно. Вполне возможно. Он готов был поверить в это.
Если он просто в спячке. В анабиозе. В глубоком-глубоком зимнем сне. Если всё, что было, проснётся и вернётся вновь однажды.
66.
Вместе с зимой медленно передвигались и они — будто навстречу теплу, навстречу жизни, куда-то на запад, если опираться на пролетавшие в разговорах названия стоянок и смутные воспоминания о том, где эти названия встречались на карте. В той стороне, где каждый вечер заходило солнце, где-то там, далеко, за линией горизонта — где-то там лежала столица, сияющий и шумный Ринордийск. Где-то там, недостижимо для глаз, но почти видимо, снежная пудра вилась в свете фонаря, и вечерами зажигались жёлтые окна домов. Иногда всё это казалось сказкой, далёкой и несбыточной, вспомнившейся для того, чтобы подивиться несдержанности своей фантазии.
Иногда же, когда среди сугробов возникали вдруг высокие гудящие столбы — линии электропередачи, прорезавшие степь — или в отдалении показывалась маленькая деревенька, или вдруг — о Боже! неужели? — на снегу появлялся какой-нибудь полностью городской предмет вроде пустой бутылки, или даже широкий рекламный стенд, — столица была так близко-близко, казалось, ещё чуть-чуть — и в воздухе разольётся её дух, и толщи снега начнут сникать и таять под тёплыми потоками, что дошли от города.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу