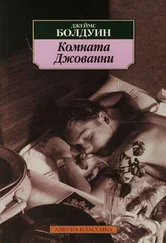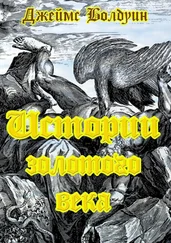Как-то вечером — ему было тогда двадцать один, а мне восемнадцать — Фонни проводил меня домой, обнял и поцеловал на прощание и вдруг отшатнулся. Я сказала «спокойной ночи» и побежала вверх по лестнице. Но в ту ночь заснуть мне так и не удалось: что-то случилось. Он перестал приходить к нам, и я не видела его недели две-три. Это было, когда он вырезал и подарил маме ту деревянную фигурку.
День, когда он подарил ее, был субботний. После того как он подарил ее маме, мы вышли из дому и пошли гулять. Я была счастлива, что вижу его после такого большого перерыва, и чуть не плакала. Все теперь стало другое. Я шла по улицам, которых раньше никогда не видела. Лица людей, окружавших меня, я тоже раньше не видела. Мы шли в молчании, и оно звучало нам музыкой. Может, первый раз в жизни я была счастлива, я знала, что я счастлива, и Фонни держал меня за руку. Как в то давнее воскресное утро, когда его мать вела нас в церковь.
Волосы у Фонни были теперь не на пробор, а шапкой курчавились на голове. И синего костюма на нем не было, и вообще он был не в костюме, а в старенькой, черной с красным куртке и стареньких серых вельветовых брюках. Башмаки у него были грубые, заскорузлые, и от него пахло усталостью.
Он был прекраснее всех, кого я знала за всю свою жизнь.
Походка у него была неторопливая, длинноногая, кривоногая. Мы спускались вниз по лестнице к поезду метро, и он не выпускал моей руки. Подошедший поезд был набит битком, и он обнял меня за плечи, оберегая от толкотни. Я вдруг подняла голову и взглянула ему в лицо. Этого никому не описать, а я даже пробовать не стану. Лицо у него было огромнее мира, глаза глубже солнца, необъятнее пустыни, в этом лице было все, что случалось на земле с начала времен. Он улыбнулся — легкой улыбкой. Я увидела его зубы и снова, как в тот раз, когда он плюнул мне в рот, увидела дырку, где не хватало того, выбитого. Вагон покачивало, он обнял меня покрепче, и вздох, какого я раньше у Фонни не слышала, будто зашелся у него в груди.
Поразительно это первое открытие, когда ты вдруг ощущаешь, что у другого человека есть тело, — это открытие чужого тела и делает его чужим. Значит, и у тебя тоже есть тело. С ним тебе жить до конца дней твоих, и оно укажет, каким путем пойдет твоя жизнь.
Меня вдруг ошеломило сознание, что я девственница. Да, девственница! Я удивилась — как же так? Удивилась — почему? Наверно, потому, что я всегда, не задумываясь, знала, что всю свою жизнь проживу с Фонни. Мне даже в голову не приходило, что моя жизнь может сложиться по-другому. Значит, я была не только девственница, я была еще совсем ребенок.
Мы вышли из метро на Шеридан-сквере в Гринич-Вилледже. Мы пошли по Четвертой Западной улице. В субботу везде полно народу, улица точно ходила враскачку от этих толп. Встречные были все больше молодежь, ее сразу видно. Но мне они не казались молодыми. Они пугали меня, и тогда я не могла бы объяснить, в чем тут дело. Я думала: это потому, что они образованные, не то, что я. И так оно и было на самом деле. Но теперь я начинаю понимать, что не такие уж они умные. Они все были на один покрой: походка, голоса, смех, неряшливая одежда, выставляющая напоказ бедность, настолько чуждую им на самом деле, — как эта их «бедность» бесконечно далека и от меня. Многие черные и белые шли вместе; кто из них кому подражал, не знаю. Они были такие свободные, они ни во что не верили и не понимали, что эта иллюзия — единственная их правда, а их поведение задано им со стороны.
Фонни посмотрел на меня. Был седьмой час.
— Ты как, ничего?
— Ничего. А ты?
— Хочешь поесть где-нибудь здесь, или хочешь подождать, пока мы к себе вернемся, или хочешь пойти в кино, или хочешь выпить немножко винца, или чего-нибудь покрепче, или пива, или чашку кофе? Или хочешь еще немного погулять, пока не надумаешь? — Он улыбнулся милой, теплой улыбкой и легонько тянул меня за руку, раскачивая ее на ходу.
Мне было хорошо, но в то же время я чувствовала себя неловко. Раньше у меня никогда не было чувства неловкости при нем.
— Давай сначала сходим в парк. — Мне почему-то хотелось подольше побыть на воле.
— Ладно. — Он все еще улыбался странной улыбкой, точно с ним вот только что случилось что-то замечательное в пока никто во всем мире этого не знает, кроме него. Но скоро он кому-то все расскажет, в этот кто-то буду я.
Мы пересекли людную Шестую авеню. Сколько народу, в все разные, все в погоне за субботним вечером. На нас никто не смотрел, потому что мы шли вдвоем и оба мы были черные. Потом, когда мне случалось проходить по этим улицам одной, все было по-другому, и люди вели себя по-другому, и я уже была далеко не ребенком.
Читать дальше