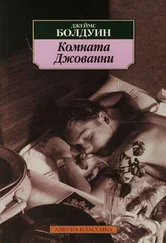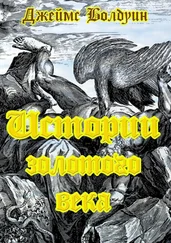Вслушиваясь, я жду третьего вопля. Пение ходит кругами. Не вполне отдавая себе в этом отчет, я между тем просунул руки дальше; левая кисть немеет, зажатая между рукой Гаваны и бедром Мейси. Мейси поет в полный голос. Я понимаю, что не сорвусь, хотя стою на самой диагонали между воплями; и по тому, как ровно выдыхает колыбельную Мейси, мне ясно, что она тоже не сорвется, хотя один вопль исходит прямо у ее плеча.
Слышу, как, не щадя голоса, художник кричит неуемному Подковке: «Теперь порядок! Уже близко! Еще десять минут! Вот они, двери! Всё о’кей! Сейчас подойдем!» И словно откричавшая положенный срок обеденная сирена, Подковка на замирающей ноте избывает свою муку.
Второй вопль теперь в одиночестве. Я перенимаю опыт художника и что-то ободряющее кричу учительнице. У нее только намечается перелом, а уже ясно, что благодаря песне очередь уцелела.
Выдыхается все, что нестерпимо наболело, учительница протяжно стонет, и вот она смолкает совсем. Песня падает в пустоту, образованную ее молчанием, и постепенно тоже стихает.
Какая это радость — тишина!
Но радость преходящая. Снова глухой гул. Подаются с места прохожие, транспорт. И легко, очень легко подается в моих руках Мейси. Поразительно, как скоро вернулся мой блудный сын: желание нахлынуло вместе с облегчением. Но поражаюсь я не столько его прыти, сколько своему упорству в нарушении предписаний. Меня отвлекают.
— Я прошу об одном, — совсем по-дружески обращается ко мне мусорщик, — чтобы ты не вставал к соседнему окошку.
У него такой спокойный голос, словно ровным счетом ничего не произошло.
— Вряд ли это от меня зависит.
— Зависит. Когда будем проходить, то за дверьми разбежимся по турникетам. Ты был здесь раньше-то?
— До окошек не доходил.
— В общем, турникеты; их открывает-закрывает охрана. В двери пускают, когда освободится какой-нибудь турникет. Тебе вот что надо делать, когда нас запустят: сразу рви к левым турникетам, а я — к правым.
— Постараюсь.
— Вот это дело.
Не то интересно, что мусорщик раздумал мешать мне (он вполне может сознавать, что усмиренная вспышка паники оставляет огнеопасные очаги), — интересно, что я раздумал менять прошение.
На меня странно смотрит Гавана.
Все ближе романские арки на темной брусчатке фасада. Две ступени, площадка — и двери. Против них — полицейское ограждение. Мужчины в форме запускают сразу в две, а то и в три двери — смотря сколько там свободных турникетов.
Я понимаю: надо думать о том, что сказать у окон. Но, как всегда, внимание рассеивается. Художник утешает Подковку, тот жалко оправдывается. Учительница тихо плачет. Любопытно, что утешает ее не кто иной, как злополучный Лотерея, вывернувший голову вправо. Бабуля довольна: такого праздника не доставит ей целый месяц сплошных праздников. Будет о чем рассказать. «И ведь прямо за мной! Словно его чем проткнули!» Мусорщик пытается убедить меня, что именно он всех спас, управляя пением; надеется, что начальство примет это к сведению, когда выслушает его просьбу. Может, я скажу там словечко-другое? Короткая же у него память: ведь сам просил, чтобы мы держались подальше друг от друга.
Мейси уже знает о возвращении блудного сына. Ее запрокинутая голова тянется ко мне. Но самое большое мое удовольствие сейчас не чувственное: я наслаждаюсь мыслью, что между нами тайная связь.
Только тайная ли? Гавана все посматривает на меня. Он оценивающе приглядывается, прикидывает.
А между тем в мою праздную голову лезут клочья застоявшейся людской массы: бородавка, жировик, гнилой зуб, кривой нос и синяя губа, жирный затылок, волосатое ухо, атласная щека, голодные глаза, две аккуратные косички, лысеющая макушка, обвислые щеки, горькая складка у рта, ямочка на щеке, гусиные лапки у глаз, набухшие узлы вей. Обрывки надежды, отзвуки внутренней борьбы, приметы обреченности.
Очередь еще не решается перевести дух. Притворное дружелюбие вдруг прозревшего мусорщика в духе общей неопределенности. У всех ощущение чудом избегнутой гибели — облегчение огромное, но еще все зажаты внутри. Говорится первое, что приходит на ум. Близость арочных дверных проемов кружит голову, путает мысли. На ступенях перед дверьми я вижу полицейских в форме темно-синего официального цвета, я даже различаю их голоса, по-своему тоже затянутые в форму: без единого пятнышка и без единой морщинки, сумрачно-строгие, они укрывают бандитское нутро стражей порядка. «Следующий… О’кей, мадам… Стойте. Не спешите».
Читать дальше