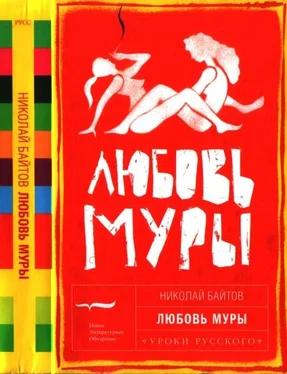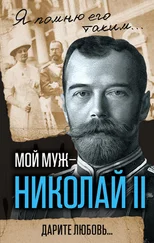29/I.
Любимая, сколько раз порывалась написать — и останавливала себя, потому что ведь ни о чём ином, кроме горя своего не могла думать, делиться же горем даже с другом не стоит, хотя вначале я не могла не сообщить Вам о нём. Первые дни как результат большого потрясения — появились непереносимые боли в позвоночнике, я кричала бы от них, если б не болезнь мамы, у которой в то время был сильный жар. Беда никогда не приходит одна: наш домишко покупает у владельца [какой-то — неразборчиво ]трест (зачем ему такая рухлядь?) и все жильцы должны к марту освободить помещение. Я не искушена в таких делах и не хочу таких пертурбаций.
Казалось, что больше измениться и выглядеть хуже нельзя уж было, однако за эти дни осунулась настолько, что видавшие меня ещё 10 дней назад теперь охают, выказывают сожаление, а я, не веря искренности таких соболезнований, раздражаюсь.
Все эти события не меняют решимости ехать в Москву, как и было намечено, в феврале в 20-х числах (после проведения у себя праздника — дня Красной армии). Постарайтесь (если можно без какого-либо ущерба для себя) разгрузиться на дня 2. Несмотря ни на что, все эти дни Вы были в моих мыслях и облегчали мне многое. Ваши письма поддерживали меня — нежно благодарю за них.
Любимая, я Вам говорила, что всё намеченное мне никогда не даётся простым обычным путём, что к поставленной цели у меня вырастают непреодолимые препятствия, которые, в конечном итоге, сокрушающей силой своего желания я их беру. Желать и стремиться — это сила, которая проявляет иногда большое могущество. Я поэтому не сомневаюсь, что моё страстное желание побыть с Вами будет осложнено многими, может быть непредвиденными, обстоятельствами. Но я не успокоюсь, пока не увижу Вас около себя. Вы просите отложить мысль о поездке вплоть до поправки? Родная, это не в моих силах. Я побуду с Вами, и мне, думается, станет покойней. Хоть бы только не слечь! Вы испугаетесь моего вида. Я теряю надежду поправиться, и по-серьёзному пугаюсь за жизнь, и в то же время (так странно мне!) иногда становится безразличной борьба за жизнь.
Эти дни, такие тяжёлые (даже Вам не могла писать), непередаваемо гадкие, всё же отмечала всякие перемены погоды, и сегодня, например, я бы ещё не села за письмо к Вам, если б не этот раздольно-шумящий ветер и такой прекрасный вечер! Ветер (эту стихию во все сезоны, кроме лета, обожаю!), несущий оттепель, почерневший снег и дающий особые запахи начала предвесны (по-украински «на провеснI») и жизненной бодрости, — этот ветер помог мне развеять и прочность столь печальной устремлённости. Ещё по дороге, подставляя лицо вечернему, несущемуся по печерским равнинам ветру — почувствовавши от близости с ним прежнее благоухание жизни — я решила Вам написать. Какое счастье, что у меня есть Вы! Эту фразу говорю не для того, чтобы сбросить на Вас хотя бы унцию от веса жизненных горестей…
30/I.
Вчера не могла окончить — не дали боли. Пишу днём: сейчас постараюсь отправить письмо заказным. Исходя из положения «лежачего не бьют», я не могу докончить Петра своим уходом от него. Случилось с ним несчастье, и я должна помочь ему определить себя для дальнейшего. Без моей помощи ему не выкарабкаться. Он мне ещё противней, пронизывает отвращение до судорог. Однако «ради человека» и из человечности надо пересилить себя. Как выдержу — не знаю… Только лишь завтра (31-го) я буду читать на конференции свой доклад. Волнуюсь как никогда: состояние головы — необычное. Ну, точно вместо мозгов — студень, с трудом осиливаю фразы. Я не знаю теперь ни одной спокойной ночи; бессонница — какой это бич, проклятье! Вам-то говорить о муках бессонных ночей не приходится, они Вам, бедняжечке, также понятны.
Если оскандалюсь — намного ухудшу своё физическое состояние. При моём болезненном самолюбии свой неудачный доклад я очень тяжело и длительно буду переживать. Завтра мобилизую остаток своей энергии. Буду искать силы в Вас. Целую так крепко, как люблю. Ваша Мура.
P. S. Письмо Вашего друга (б.) мне понравилось: умное, интересное, с лёгкостью читается и так рельефно оттенены некоторые свойства Ваших проявлений.
30/I, вечер.
Весь день тянуло к звукам. Несмотря на выходной, отправилась к себе в учреждение — хотела хоть радио послушать. Много играла Polonaise № 12 Шопена и Вебера («Приглашение к танцу» — с замечательными переходами!). От звуков, извлекаемых моими негибкими и непослушными пальцами я получила всё же наслаждение. Как досадно, что Ида никак не податлива и не восприимчива к музыке. Её жизнь от отсутствия таких прекрасных восприятий будет охудосочена, в ней будет большой пробел. Уже в 7–8 лет я буквально млела от слащавых церковных напевов (то единственное, что было тогда доступно) и сама, принимая участие в хоре, чувствовала малейший изъян, детонирование мелодии. А теперь с удовлетворением, доходящим до экстаза, способна отдаваться звукам. Предпочитаю мелодии ноктюрнов, элегий, всевозможные adagio, — эта музыка всегда в контакте с моей настроенностью. Она не расслабляет, не к нытью располагает, а стимулирует, активизирует, заряжает запасом действий. Глубоко влияя, такая музыка воспитывает хорошее, открытое, прямое, даже отважное отношение ко всем перипетиям жизни. Какое чудесно-освобождающее от всей поросли нашей повседневности — это чувство отваги, когда бросаешь вызов (открытый, а не кулак в кармане!) тому, с чем обычно миришься, но за такое примиренчество испытываешь и досаду на себя! Такая отвага даёт риск и победу! Совершенно понятно, что в появлении героев, в создании различных эпопей она занимает значительное место в сочетании с такими качествами как чувство долга и т. д. Я часто с грустью… Перебили меня…
Читать дальше