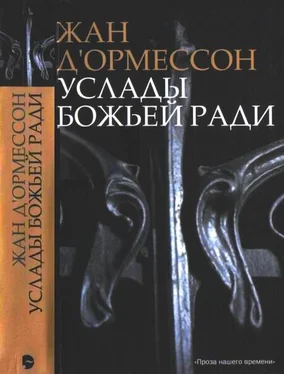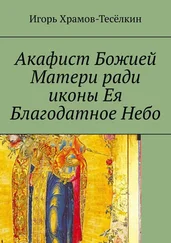«Двадцатый век, — писал мне Филипп, — будет веком фашизма и национальной дружбы». Он описывал мне мрачную прелесть ночных шествий, рассказывал о павших в бою героях, о всемирном красном фашизме. А Клод рассказывал о братстве народов, о советском кино, о неумолимом царстве прибавочной стоимости на Западе. Рассказывал нам о том, чего мы не знали и что он с ужасом открыл для себя: о голоде, безработице, гибели детей и стариков, отчаянном положении народных масс, угнетаемых и подавляемых нашим миром. Догадывались ли мы об этих несчастьях? Знали ли мы, что творится рядом с нашими райскими кущами, глядящими в прошлое? В течение нескольких месяцев, в течение нескольких недель я наблюдал, как он день за днем отдаляется от той сложной конструкции привычек и поверий, которые я пытался описать здесь по возможности точно и максимально справедливо. Клод решительно отметал все, что создало нашу семью, наш класс, нашу религию. С тем же темпераментом, с каким он кинулся к Богу, он теперь обращался к истории, где была начертана наша гибель. История, даже современная история, причем именно современная история, вовсе не была нагромождением нелепостей, которые так расстраивали моего деда. В ней был смысл, была цель: революция. И мой кузен встал на ее сторону. Революция была неизбежна, но за нее надо было бороться бок о бок с пролетариатом, с рабочим классом, которые воплощали в себе нечто близкое к Богу, к Богу, ставшему историей. В Клоде проснулось новое чувство: стыд за то, что мы принадлежим к классу, осужденному историей за несправедливости и глупость. Любовь и ненависть, жалость и ярость слились у него в некую смесь, казавшуюся мне тогда совершенно необычайной. Мы приводили свой довод: убийство дяди Константина в Крыму, вместе с женой, с детьми, со слугами. Клод отвечал, что история развивается благодаря кровопролитиям и что мы тоже пролили немало крови, щедро проливали ее и сами, и охотно позволяли проливать ее другим, и что только теперь стали такими бережливыми, испугавшись, что потечет и наша отнюдь не невинная кровь. Он рассказывал мне о России, о вере коммунистов в свое дело, о своем презрении к праздности и буржуазному декадентству, к культу денег, постепенно сменившему наших рухнувших идолов. «Оглянись вокруг себя, — писал он, — вместо Бога и короля, ради которых умирали наши предки, я вижу только деньги, деньги, деньги и еще раз деньги. Что еще? Ну, скажи. Я не вижу ничего». Он также писал: «Я ничего не отбрасываю, ни с чем не расстаюсь, ничего не предаю. Просто те великие идеи, в которые мы верили, провалились в небытие». Насколько я помню, Клод всегда сильнее, чем кто-либо другой из нас, испытывал потребность во что-нибудь верить. В тот день, когда он перестал верить в Церковь, он почувствовал себя сиротой. И выбрал себе другого отца, нашел его довольно далеко: этим отцом был народ.
Больше, чем его братья и чем я, Клод питал страсть к книгам. Потом он не отказался от них, но многие из наиболее любимых нами книг стал осуждать за эстетизм или оттого, что видел теперь в них всего лишь орудия правящей буржуазии, от которой он отрекался. Он заменил их новыми богами, к которым приобщил и меня тоже и даже научил меня восхищаться Золя, Жоресом, Барбюсом, Эйзенштейном, Есениным и Маяковским, Арагоном и Низаном. Одно из писем Клода, написанных в Москве, заканчивалось такими неизвестными ранее мне строками:
«Из букв багряных
Надпись-исполин
Возникла в небе в шесть часов:
Да здравствует партия большевиков
ВКПб
и вождь ее, товарищ Сталин».
Только много позже я узнал имя автора этих стихов, сыгравшего большую роль в жизни моего кузена. Они были написаны Арагоном.
В течение предвоенных лет и месяцев я увидел, благодаря Клоду, как могла выглядеть наша семья, куда я вас ввел, в чьих-то других глазах и как могли измениться смысл и представление о мире и о людях. Верность, традиция, уважение к прошлому были всего лишь выражением, чаще всего неосознанным, классовой политики. Мы ведь не принадлежали даже веку агонизирующей промышленной буржуазии. Мы были привидениями, бесплотными и бесцветными, маразмирующего феодализма, ушедшего двести — триста лет назад во тьму веков минувших. Мы еще блистали в так называемом Великом веке, но он уже знаменовал наш упадок. Людовик XIV с раболепствующими придворными Версаля и богатыми лавочниками у руля государственного управления, со своей личной диктатурой и попранием высшей знати в каком-то смысле был провозвестником революции. Во всяком случае, он уже явственно обозначил окончательное крушение того феодального мира, за который мы еще цеплялись, идя на поводу у своих иллюзий. Буржуазия нас свергла, но, хоть и с брюзжанием и нехотя, мы с ней соединились, скрывая от самих себя радость, что хоть так сохраняем какие-то средства существования. Неслучайно на рубеже веков дядюшка Поль женился на тете Габриэль. Клод ненавидел в себе кровь матери даже в большей степени, чем кровь отца. Клод просто пугал меня своей яростной неприязнью к Реми-Мишо, тому, как им удалось в корыстных интересах притормозить революцию, на которую они работали. Он попрекал своих родственников и за их связи с промышленностью, и за их презрение к народу, из которого они вышли. «Я ненавижу их, — говорил он мне, — ненавижу, ненавижу. Ненавижу всех». Эта ненависть вдруг открыла ему глаза на мир с его явным, не вызывающим сомнения безумием. Он обнаружил для себя образ другого мира, где события происходят логично, где все противоречия, в которых мы запутались, оказались вроде бы наконец разрешенными. Клод упрямо держался своей теории и объяснял с ее помощью все, включая мельчайшие детали нашего бытия. Все объяснялось. Все вставало на свои места в системе, еще более жесткой, чем та, что веками определяла нашу общую судьбу. Бог, наша древняя история, наша древняя мораль, король — все это было и прошло, похоронено и забыто. Но они воскресали в странном, неузнаваемом виде, вновь оживали в диалектике Гегеля, замаскировавшись бородой Карла Маркса, прикрывшись кепкой Ленина. Филипп не понимал Клода, но Клод понимал Филиппа, чья националистская воинственность была в его глазах, после либерализма и традиционализма, последней линией обороны буржуазии против поднимающихся новых сил международного пролетариата. Позиция Клода по отношению к матери была несколько двойственной. Конечно, он осуждал в ней ее любовь к развлечениям, ее склонность все превращать в игру, ее эстетизм и излишнюю утонченность. Но он не отрицал, что в ее поведении, во всяком случае в Париже — ибо в Плесси-ле-Водрёе консервативнее ее никого не было, — имелся и революционный аспект. Она разрушала. После чего другие могли строить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу