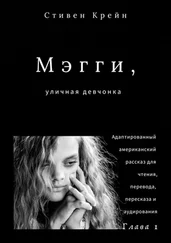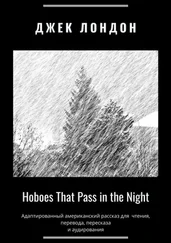— Судья позаботится о нас.
— Да, мэм, — проговорил я, не ощущая ни малейшей связи с этими словами, и думал, как оставить ее, уйти — куда, я не имел представления, — и тут она встала, как будто по удару колокола, и так театрально вздохнула, как могла бы вздохнуть Дебора Керр в «Чае и сострадании», фильме, который мы смотрели в «Метроколоре».
— Поцелуйте нас, мистер.
Мы стояли щека к щеке, она наклонилась, а я поднялся на цыпочки, я думал о Судье, и его усах, и его громоподобном «ха-ха-ха», отдающемся от стен, а потом понял, что у нее еще есть что сказать и она не даст мне уйти, пока не скажет это.
— Ты не должен его ненавидеть, Картер. Обещаешь?
От нее пахло сиренью, и сигаретами, и джином.
— Не буду, матушка.
Она легонько сжала мне плечи, и я больше не был мальчиком, который рассуждает как взрослый и знает намного больше, чем свое имя и домашний адрес.
— В семье Гарнеров не ненавидят, — сказала она. — Никогда.
В этом она была не права, так же, как по поводу Элвиса Пресли («Помилосердствуйте, эта его песня о волкодаве!») и епископа Фултона Шина («По мне, он похож на грызуна»); как была она, до того как тронулась умом, не права по поводу Фиделя Кастро и того, как надо относиться к «Любовнику леди Чаттерли». Я все-таки начал ненавидеть отца — ощутил к нему трусливую неприязнь в полном смысле этого слова, и случилось это меньше чем через неделю, когда я оказался в его кабинете на втором этаже.
— Что это такое? — сказал я.
Я стоял у его письменного стола, рассматривая хаос, осененный книгой «Имущество и доверенности умерших» (издательство «Фаундейшн пресс»), и видел, как словосочетания вроде «inter vivos» и «per curiam» поднимаются с покрытых каракулями желтых листков его блокнота. Он сражался с делом, в котором от него требовалось знание «Незавещательных документов» и «Умерших без наследников», а также решений, вынесенных в деле Руга против Арнольда и Спенсера против Чайдцса, и, где бы он ни находился теперь — во Внешней Монголии, в Тимбукту, — он больше не был адвокатом у Эндрю Сквайра и не обязан был говорить о «Правилах, ограничивающих введение в права наследования».
Я ничего не трогал. Ни его папки, похожие на огромные игральные карты, лежащие на полу. Ни его телевизор «Кросли». Ни его записи Юлиуса ла Розы и Перес Прадо на стуле возле стола. Дыши, сказал я себе и дышал, вбирая в себя комнату, которая пахла бриллиантином «Виталис» и табаком «Старый лесничий», которые он любил.
— Отец, — сказал я, и это слово можно было выговорить, не вкладывая в него душу или еще что-нибудь существенное.
В шкафу на другом конце комнаты висели его пиджаки от «Харта Шеффнера и Маркса» с тремя пуговицами и шлицами, его шляпа фасона «Доббс», его галстуки от галстучной компании «Хабацц, Патерсон, Нью-Джерси». «Подробности, — мог бы сказать я. — Я не могу совладать с подробностями». Он носил туфли компании «Массэджик», свитеры от Кара-Лона и пользовался гуталином «Скафф-Коут», как рекомендует журнал «Эсквайр». Тихий, как часовой, я изучал его комнату, видел ворсинки на его промокательной бумаге, представлял себе, как он делал заметки — строгим наклонным почерком, похожим на его позу, когда он сидел в кресле или в двухместном автомобиле «монтклер» цвета хурмы и классического белого.
Его здесь не было, но я ощущал его присутствие, мог представить его себе целиком, глядя на «х», и «у», и «z», которые он здесь оставил. В памяти всплыли два эпизода. В первом из них, год назад, он стоял с Эйбелем в глубине заднего двора, под деревьями. Речь шла о сорняках — или компосте, или обрезке деревьев, — я стоял рядом с отцом под зонтом, Эйбель на расстоянии вытянутой руки, с его шляпы стекала вода; отец откашлялся. Ему пришел в голову вопрос, нечто жизненно важное, и, по-прежнему пристально глядя на хлюпающую землю, он сказал:
— Эйбель, ты веришь в жизнь после смерти?
Тот повернул голову, медленно, как на винте. В его взгляде бьии изумление и настороженность — сначала одно, потом другое.
— Я верю в справедливое воздаяние, — сказал он. — У меня нет ясного представления о небесах.
Отец, по-прежнему глядя в землю, кивнул, а я, помнится, внимательно смотрел, как Эйбель глотает — у него был огромный кадык, — потом он лениво почесал ухо и наклонил голову так, что они с отцом, хотя и не стояли рядом, уставились на некую проблему, которую обнаружили у себя под ногами.
— С этой минуты, Эйбель, — сказал отец, — зови меня Вилли.
Слышу нечто новое и необыкновенное, подумал я и посмотрел на Эйбеля, фамилия которого была польским выламыванием челюстей с огромным количеством «пш» и «чш», и увидел, что он тоже это уловил.
Читать дальше