Все домашние дела, кроме уборки скотины, — бабьи; полевые дела наполовину — тоже бабьи. Косит, бывало, Иван рожь или пшеницу, а жена, пристегнув к поясу пучок осочных свясел, вяжет за ним. На стану, под телегой, укрытый от нещадных лучей дырявым пологом, хнычет и попискивает в зыбке ребенок. Ребенок попискивает на стану, а мать слушает его и лихорадочно кидает снопы с боку на бок, опоясывает их, нажимая коленом. Взмокнув вся, нагонит мужа, управится с рядом, потом подбежит к ребенку, покличет его, поцелует, обдав жаром тела, заткнет ему рот тряпичкой с хлебным жеваным мякишом и опять за грабли. Иван рядков пять-шесть положит косой поперек загона, саженей на тридцать, сглотнет чашку воды и, поставив сноп, приляжет под ним покурить в холодке. Жена тем временем переменит пеленки, покормит мальца грудью и, если Иван все еще прохлаждается, успеет подгрести растерянные колосья. А вечером Иван, бросив косьбу, стаскивает снопы в копны, а жена спешит в хутор, к домашности и к детишкам, чтоб с восходом солнца снова быть в поле.
Вот так и жили. Жили как все.
К старости Иван все чаще начал зашибать и чудить. То вообразит себя зингеровским агентом и ну слоняться по дворам, навязывать хозяевам швейные машинки, каких у него нет и не бывало. То, забравшись в какой-нибудь дальний хутор, объявит себя постовалом, мастером по валяльному делу. Люди натащат ему шерсти, дадут задатки, он наклюкается и начинает мастерить. Но больше двух-трех пар валенок «отделать» не успевал: заказчики намнут ему бока и с кандибобером выставят из хутора. А один раз, загнав корову, открыл бакалейную лавчонку: спички, мыло, фруктовый чай, пряники, орехи… На второй день торговли в лавку прибежал Андрюшка, в будущем Надин родитель. Прибежал, чтобы выпросить у отца гостинчика. Смотрит — отец лежит, растянувшись на полке, уставленной косушками, и головы не поднимает, похрапывает. Андрюшка насыпал в подол пряников, грецких стручков и помчался домой, хвастаться удачей. А люди между тем шли в лавчонку и, посмеиваясь, насыпали в карманы кому что угодно.
Однажды Иван с пьяных глаз заночевал зимой на гумне, в соломе, его хватила кондрашка, да так, что он почах с полгода и пошел на тот свет.
Обо всем этом Надя слышала неоднократно от самой бабки. А как покоилась ее вдовья старость у сына, Андрея Ивановича, Надя видела собственными глазами. К слову сказать, Андрей Иванович очень мало похож на своего родителя. Тот своим чудачеством извел самого себя, оставив жену вдовой, а этот сам овдовел, безо времени состарив и сведя в могилу Надину мать.
Но как бы неприглядно ни проволочились бабкины деньки, такие тусклые и смурые, Надя знала: многие из хуторянок, бывших бабкиных подруг, все же ей завидовали.
В хуторе на Большой улице и посейчас живет износившийся вахмистр-батареец Тарас Поцелуев, кряжистый, ширококостный, под пару здоровяку Моисееву, только, пожалуй, попроворней этого увальня. Все знали: бивал Тарас бабу смертным боем и хныкать не велел. Бывало, как явится домой, заплетая ногами, а это случалось с ним нередко, так непременно начнет измываться над бабой: либо лупцовку ей задаст, а то стащит ее, в одной исподнице, с кровати, поставит перед собой на колени и, приказав на него креститься, скомандует: «Говори: «Тарас, моли бога о нас!» И она, заикаясь от подступавших рыданий, вяло помахивая рукой, со сложенным трехперстьем, страдальчески тянет: «Тара-а-ас, моли бога о нас… Тара-а-ас…» Когда батарейцу надоест это, он прикажет: «Бреши, как наш Шарик!» Жена его запрокинет голову, вытянет худую в густой сетке морщин шею и слабенько, переливчато, полузакрыв глаза, наполненные слезами, зальется, подражая своей неугомонной, одряхлевшей собаке: «Гав-гав-гав-гав…»
Рассказывают: как-то зимой под вечер к Поцелуевым загнала непогодь передрогнувших монашек. Было их три: две молоденькие и одна уже пожилая. Тараса как раз дома не было — он вспрыскивал в шинке только что купленную лошадь, — и хозяйка пустила монашек ночевать. В полночь, когда они, распарившись на печи, уютно почивали, пришел Тарас. Вздул огонь, разделся и, намереваясь провести очередную дрессировку жены, подошел к кровати. На печи в это время заворочалась и запричитала во сне молитву одна из спящих. Тарас удивленно взглянул туда. «Это что за люди?» — спросил он у жены. «Чернички. Ночевать попросились», — «Чернички?.. Гм! Это что же… кто позволил? Заместо того чтобы молиться, на печь забрались. А ну, слазьте!.. А ну, слазьте!» — повторил он уже тоном вахмистерского приказа. Монашки зашуршали в углах, негодующе зашипели, поднимая головы. «Кому сказано! — и Тарас, рыча, потянулся к висевшей на стене плети, сыромятной, толстущей. — Нну-у!»
Читать дальше




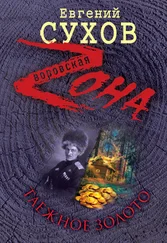





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
