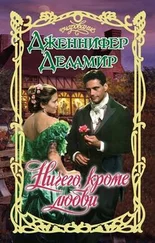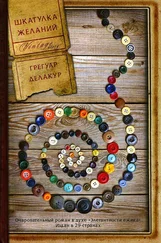Четвертый, пятый и так далее до двадцатого были гибельны для моей ноги и для чести вратаря. К нам подошли односельчане. Слышались охи и ахи, аплодисменты, смех. Один огородник предложил сменить меня. «Хорхе Кампос» отразил два красивых удара. Я изготовился пробить последний раз, как вдруг женский голос позвал мальчика. Архинальдо! Тот кинулся на зов. Это моя сестра, сказал он мне, пробегая мимо, пора домой. Я оглянулся. Сестра была много старше его. Черные, очень черные глаза. Очень глубокие. Архинальдо вернулся, подбежал ко мне. Всего на полсекунды.
Спасибо, el loco .
Тихий океан, яростный, завораживающий, красота местности, тысячи птиц, свежий воздух, отсутствие телефона, факса, Интернета, электричества и плохих новостей из большого мира – достаточно причин, чтобы Десконосидо никогда не пустел. Клиенты сменяют друг друга. Они приезжают из Дели, Сан-Франциско, Гамбурга, Биркиркары, Москвы, Капа. Приезжают замотанные, уезжают счастливые. Некоторые пары не покидают своих palafitos . Другие уходят гулять к океану на целый день. Им дают с собой чудесную корзину с обедом. Они возвращаются под вечер с красными щеками, с сухой, просоленной кожей. Кое-кто наблюдает за птицами. Одному довелось разглядеть большую питангу, ацтекскую чайку и белых цапель. А иным посчастливилось увидеть, как рождаются морские черепашки, и помочь им добраться до теплой воды океана. Они спасли их. Они рассказывают об этом вечером, и глаза их лихорадочно блестят в свете свечей.
Еще несколько месяцев назад я был одним из них. Я слушал вечером ту чету норвежцев, изливавших свою страсть к Торо [42], и мы проспорили до глубокой ночи. Молоденькие недалекие студенты, слегка пьяные. Идеализм. Трусость. Природа. Индустриализация. Отсутствие смысла. Я рассказал о конском копыте во французской лазанье с говядиной. О катышках дерьма в печенье из «Икеи». Они мне не поверили. Заказали еще шампанского. В пламени свечей плясали пузырьки, порхали наши взгляды. Свет Латура [43]. Снаружи, всего в метре от нас – тьма. Угрозы.
Мы чувствовали себя тогда на краю края света. Там, где все кончается. Где обнаруживаешь, что Земля не круглая. Что совсем рядом, в нескольких милях, океан обрушивается вниз, как водопад, и вода его утекает в пространство, и каждая капля становится маленькой звездой. Мы так малы и уже кончены. Леон никогда не спрашивал меня, почему Земля круглая. Почему люди с Южного полюса не падают, папа?
Позже мне предложили работу в отеле, вечерами, помимо часов уборки. В эти вечера я зарабатываю еще шестьдесят песо. Такими темпами через триста восемьдесят ночей я смогу купить себе подержанную малолитражку. Я убираю со столов, когда последние клиенты уходят спать. Мою посуду. Мы смеемся с Паскуалем. Он заливает, что у него была тысяча женщин. Восемьсот семьдесят три, если быть точным. И ни одной парижанки. Но он не жалеет. Ему говорили, что в постели они не golosa [44]. А ему только того и надо в любви и в постели: лакомиться. Я накрываю столы к завтраку. А закончив работу, там и сплю, на песке у огромного пруда, полного рыбы; несколько теплых часов. Рокот океана укачивает меня. Он горячий и хриплый, как дыхание отца. Мужественного отца на сей раз.
– Да, так вот. Ваш отец?
– Мне трудно говорить о нем. Он умирает. Рак. Кишечник, печень. Последний рентген показал еще и затемнения в легком. Он неизлечим. Но не хочет этого знать. Чтобы не огорчать свою жену, да, может быть, но главное – чтобы не бороться. Я бы не сказал, что грущу о нем. Я грустил о моей матери. Ее смерть меня подкосила. Жестокая смерть. Это было в год, когда родился Леон. Когда Натали снова мне изменяла. Я вдруг совершенно осиротел. Мне было тошно. Не только на душе, в теле тоже. Мне казалось тогда, что от меня воняет. Я был дерьмом. Меня бросили. Все бросили. А Леону я еще не был нужен, ему еще не был нужен отец. Хватало матери. С ее запахами другого, паршивыми духами и душком спермы. Я пытался не ревновать. Вот чем хороша трусость: вас опускают, а вы помалкиваете. Мой отец на моей памяти всегда был таким. Раз уж вы хотите поговорить о нем. (Он встает, открывает пошире окно, это из-за моих сигарет. Но он не жалуется.) Я помню, что отец казался мне красивым, когда убалтывал клиенток, мол, спасение есть: он приготовит нужный раствор. Мы с сестрой подглядывали за ним из-за витрины Лапшена. И гордились им. В такие моменты мы были до ужаса счастливы; но почему счастье и радуга всегда так недолги? Есть спасение для вас, мадам Мишель, раствор только для вас, мадам Доре. И они смотрели на него так, будто он был Иисусом: «Просите, и дано будет вам» [45]. Он делал их счастливыми, спасал их. За это его любили. Почему же он не спас нас с сестрой. Почему находил растворы только для других. Почему дал нашей маме уйти. (Я устало вздыхаю.) Извините. (Гашу сигарету.) Ох, какая пакость это наследие. Вот чего я не могу ему простить. Не того, что он недостаточно любил нас, чтобы спасти, – хотя бы как своих сучек-клиенток, – а того, что сам стал таким, как он. Куском дерьма, жалким трусом. Не могу простить, что он не потряс меня за грудки, не проорал мне в ухо: Не будь таким, как я, Антуан, слышишь? Никогда! Не походи на меня, беги прочь! Моя мама говорила мне это, но я не понял. Такие вещи должен вам говорить отец. Однажды, когда он парковался, кто-то занял его место. Дай ему в морду, папа! Дай ему в морду, неужели ты это проглотишь. Он ничего не сказал. Включил первую скорость. Рванул с места и отвез меня домой. По-прежнему молча. Я тогда поклялся себе, что со мной, когда я вырасту, такого не случится. Но это случилось и со мной. Он передал мне это, как болезнь. Я рос с этим стыдом. Худшим из всех: когда стыдишься себя. Я знаю, что он хочет меня навестить. Но пока не хочу его видеть. Я не готов. Зло, которое я совершил, – это зло, которое совершил он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу