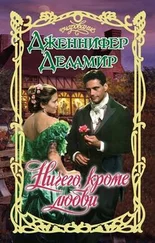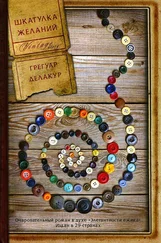На рассвете меня отвезли в машине «Скорой» в психиатрическое отделение Университетского госпитального центра Лилля. Меня привязали к койке. Утыкали руку иголками. Несколько раз я терял сознание. Тепло моей мочи успокаивало меня. Запах моего дерьма. Я отказывался есть. Я хотел умереть. Мне всадили еще одну иголку. Есть больше не хотелось. Пить тоже. Я попытался проглотить язык, и меня вырвало кислой водой. Заходили медсестры, присматривали за мной. Они были милы.
А моя дочь.
Мы ничего не знаем, мсье. Мы даже не знаем, здесь ли она.
Потом, много позже, за мной пришли. С улыбкой.
Я один здесь. Я приехал один.
После трех лет с врачами, подвергшись всевозможным терапиям, я все-таки отыскал наконец журналистку, носившую громкое имя великого адмирала английского флота и альбома Гензбура.
Она меня не помнила. Я вас не понимаю, твердила она. Не могу уразуметь, чего вы хотите. И потом, я не одна, у меня есть муж. Я говорил ей о ее грусти, о ее безграничной красоте. О голубой лагуне. О коктейле, носившем название фильма, с кусочком апельсиновой корки на краю стакана. Я говорил, что хочу ее развеселить. Я говорил ей о жизни, я говорил ей о ней. О моем нечаянном спасательном круге, не давшем мне утонуть, удержавшем живым на поверхности несчастья; все эти долгие месяцы, проведенные в белизне, в эфире, среди железного лязга. Молчание мира. Три года в ремнях, в химии. Она ничего не сказала – и положила трубку навсегда. Двое раненых нужны для встречи, два скитальца, иначе один придавит другого, прикончит его. Я долго держал в руке телефонную трубку, прижимая ее к уху. Маленький пластмассовый пистолетик. Растаяла моя последняя иллюзия.
Дом был продан. Натали получила больше половины, а на остальные деньги я оказался здесь.
Здесь, где я мечтал теперь о рождении наших жизней. О большой и трагической любви. Краткой и бесконечной одновременно. В нескольких милях отсюда снимали «Ночь игуаны» [34].
Здесь, где испарина тел и ожоги желания осязаемы. Грехи. Безумие. Океан, поглощающий людей.
Здесь двадцать семь palafitos . Каждый носит имя мексиканской лотерейной карточки. Я живу в el valiente . Смелый. Как язвителен порой случай. Сегодня моя последняя ночь в этой немыслимой комнате, в этом домишке, танцующем, точно водомерка, между небом и водой. Вчера утром одна из шести уборщиц не приехала вместе со всеми в грузовичке, который каждый день привозит их из Эль-Туито, ближайшей деревни на краю заповедника. Молчание пяти остальных выдавало беду. Тигры всегда бродят ночью. Я попросился на ее место. На ее работу. Пожалуйста. Я сын уборщицы, я все умею. Я не боюсь испортить руки. Они у меня крепкие и надежные, как у моей мамы. Я не могу больше платить семь тысяч семьсот пятьдесят песо в день. Эта работа – шестьдесят песо в день, сеньор, проработав год, вы едва сможете провести здесь пару ночей, как вы не понимаете. Я хочу работать здесь, сказал я, и получать шестьдесят песо в день. El loco [35] . El loco. В тот день я стал безумцем. Мое молчание, с тех пор как я приехал, говорило в мою пользу. Стушевавшись, я создал образ безобидного существа. Мои более чем приблизительные слова внушили вежливое сочувствие персоналу отеля. Позже я узнаю от моих коллег по уборке, что мне приписывали большую, огромную, неисцелимую несчастную любовь, – и это отчасти правда. Что я-де ходил так близко к океану, желая, чтобы он поглотил меня. Как тот suicida [36], что написал «У подножия вулкана» [37]. Что я приехал сюда работать над книгой. Писать слова своей sangre [38]. Как пишут историю безумной любви. Говорили, что магия Десконосидо спасла меня. Я стал уборщиком. За десять песо в день мне сдали крошечную комнатушку в Эль-Туито.
Мы выезжаем каждое утро с рассветом, семь дней в неделю. Пятьдесят минут в тряском грузовичке. Проселочные дороги. Длинный, длинный шлейф пыли. Я ловлю ее порой, пытаюсь удержать. Женщины смеются. И сквозь решетку пальцев, заслоняющих рты, вылетают слова. ¡El loco! ¡El loco! Я смеюсь вместе с ними, и день ото дня мой смех все легче, он даже становится звонким, освободившись от горестей прошлого.
С этим смехом однажды я войду в нее.
– Почему вы ни разу не навестили вашу мать?
Хотя табличка на стене запрещает, он разрешил мне курить. Я глубоко затягиваюсь, пока сигарета не обжигает мне губы и язык. Выдыхаю дым, и он зависает перед моим лицом, скрывая его, как скрывает яблоко лицо «Сына человеческого» на картине Магритта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу