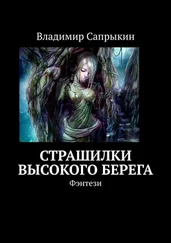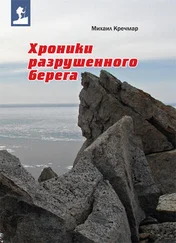Печатали Гусева неохотно. Он не принадлежал к тем активным литераторам, которые все написанное сразу рассылают по газетам и журналам, альманахам и коллективным сборникам, в надежде, что авось где и напечатают. Но и литературным затворникам тоже не был, любил и охотно выступал на литературных вечерах. Помню, как однажды он торопливо одевался, расхаживая по квартире, подбирал галстук, которые в общем-то не любил носить, рылся в рукописях, откладывая в сторону странички со стихами и, радостно-возбужденный, говорил мне: «Пригласили на творческую встречу в Черехинский пансионат. Поедем со мной выступать, а? Сейчас и машина оттуда придет».
Первая небольшая книга стихов «Пожелай мне удачи» была издана лишь в 1971 году, с предисловием М. Львова, у которого Гусев учился в семинаре. Когда вышла вторая книга (1974), тоже невеликая, я как-то спросил Александра Ивановича, сколько он всего написал стихов?
— Точно не знаю, не считал. Может, триста. — И засмеялся.
— А сколько опубликовано?
— Около сотни.
Человеком он был верующим, что невозможно скрыть, и это, конечно, проявлялось в стихах лишними, с точки зрения редакторов, строчками. Редакторы требовали строчки заменить, Гусев отказывался, снимал все стихотворение, оставляя его на лучшее, благоприятное время. Он тогда переписывался со Светланой Молевой, одним из редакторов Лениздата, хорошей поэтессой, человеком независимым, которая сама не могла опубликовать ничего лишнего, и его письма к ней и ее письма к нему были полны жалоб на «проклятую цензуру».
Третью поэтическую книгу, дающую возможность подать заявление на вступление в Союз писателей СССР, пришлось ждать еще десять лет. Гусев заявление написал, страстно, как все писатели, желая этого вступления, дающего автору не только официальное признание, но в те годы еще и высокий общественный статус, сравнимый, по меньшей мере, со статусом доктора наук, профессора. Но тут снова сыграло роль мнение о Гусеве как о сухаре, книжнике, пишущем не сердцем, а умом. Дело не дошло даже до московской приемной комиссии: «второго на Псковщине после Пушкина» поэта зарубили в самом начале, в Пскове, — большинство псковских писателей отказало ему в рекомендации, проголосовало «против».
Не знаю, как он вытерпел этот удар, эту несправедливость. Внешне оставался спокоен, даже шутил, но то, что это было для него трагедией, — несомненно. В Союз писателей Гусева позже приняли, когда ему исполнилось пятьдесят три года, и после тридцати лет литературной деятельности, писания стихов, изданных книг все выглядело как насмешка.
Долгое время после пожара, не имея крыши над головой, он проживал в квартире поэта Игоря Григорьева, где ему была выделена отдельная комната. Игорь Николаевич не считал Гусева своим учеником, слишком они были разными в смысле творчества, но хвалил чрезмерно. В этой чрезмерности можно было бы усмотреть некоторое лукавство, но все не так. Хотя Григорьев, несмотря на суровость, был человеком по-детски восторженным к литераторам, но не настолько, чтобы не отличить хорошее от плохого, и хвалил, конечно, искренне.
Через несколько лет Гусев перешел на работу в областную библиотеку, в отдел книгохранения, и оказался словно в своем мире. В служебном халате, он ходил среди нескончаемых стеллажей с книгами, мог взять любую и читал, читал… Незадолго до смерти он вновь обрел жилье, получив, скорее всего от Союза писателей, однокомнатную квартиру на улице Яна Фабрициуса, и тут же заставил комнату с четырех сторон полками с книгами.
* * *
В одном из интервью «Псковской правде», вспоминая детство, Гусев говорил о повестях Гоголя: «…мне казалось жутко несправедливым, что они написаны прозой». Александр Иванович был всегда нацелен на поэзию, подумал я и вспомнил наш давний спор о Бунине. Гусев утверждал, что Бунин как поэт неизмеримо выше Бунина-прозаика. Я возражал, что его поэзия — тематически продолжение творчества Фета, Майкова, он их последователь, не более того, а вот проза Бунина — одна из вершин мировой литературы, недаром он и Нобелевскую премию получил за прозу.
Спор проходил во время прогулки, Гусев по обыкновению слушал, опустив лобастую голову, словно в большой задумчивости, и наконец заявил непреклонно:
— Лучше бы ему дали премию за поэзию.
С того разговора прошло почти сорок лет, а я до сих пор недоумеваю: неужели Александр Иванович не понимал очевидного? Не понимал. Он действительно во всем и всегда был нацелен на поэзию.
Читать дальше


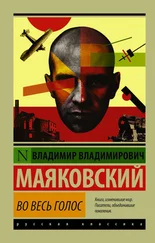
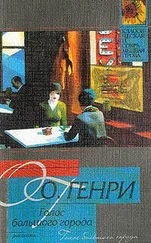
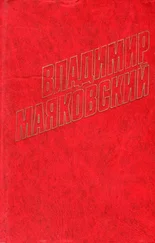

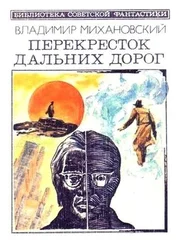

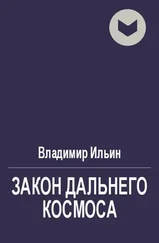
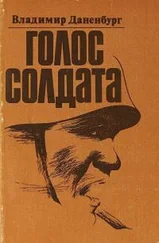
![Сергей Протасов - Цусимские хроники - Мы пришли. Новые земли. Чужие берега [сборник litres]](/books/436040/sergej-protasov-cusimskie-hroniki-my-prishli-novy-thumb.webp)