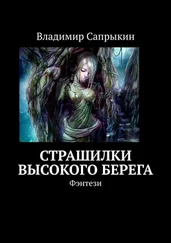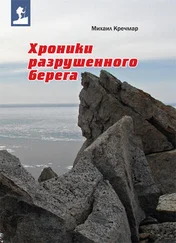— Посмотрите, может, чего напечатаете. Постарайтесь.
Мы удивлялись, было неловко: никогда ничего не приносил, никогда мы его не печатали, а тут чуть ли не просит.
Отрывки печатали, на редакционных летучках они отмечались в числе лучших, о чем я всякий раз ему сообщал. Он молчал, будто не слыша, но по слабой, едва мелькнувшей улыбке чувствовалось, что он доволен.
Нечаев прожил долгую жизнь — восемьдесят четыре года. В последнее время стали отказывать ноги. Евгений Павлович крепился, появлялся даже в Союзе писателей. Его привозили на улицу Ленина, а потом мы спускались и помогали ему подняться на третий этаж.
Так же, придерживая с двух сторон, помогали ему на похоронах писателя Виноградова. Он смущенно кряхтел, видимо, стесняясь своей немощи. А затем, оглядев собравшихся впереди людей, холм желтой земли на краю вырытой могилы, отчего-то растерялся, дальше не пошел, встал в стороне. На Нечаева оборачивались, с острой жалостью замечая беспомощное выражение лица, всю его одинокую фигуру в толстом ватном пальто, делавшем его почти квадратным, и, когда он, выпив поминальную стопку, не дожидаясь окончания, направился к выходу, все поняли, о чем в эти минуты думал Евгений Павлович.
В последний год совсем не выходил из дома. Сидел на кровати, опустив ноги, в рубашке, похудевший, слабый, только знаменитая нечаевская борода казалась еще больше. Но и в таком виде напоминал состарившегося, но командира, который по-прежнему воюет, только вместо гаубиц теперь были книги. Они лежали вокруг на стульях, на столе, на подоконнике, даже на кровати, и, разговаривая, он брал в руки то одну книгу, то другую. И снова вспоминал о войне, об училище, — об училище даже чаще, рассказывая, как после войны заезжал в Ленинград к любимому преподавателю, в послужном списке которого, помимо генеральского звания в дореволюционной России, была еще генеральская должность командующего артиллерией армии Колчака.
— Очень он обрадовался, что я жив, обнял, прослезился, совсем маленький, сухой старичок, как я сейчас. Потом засмеялся и показал на свои погоны: «Мне недавно звание присвоили. Теперь я снова генерал — в третий раз…». Умные головы не тронули после революции таких отцов-командиров, понимали, что одними комиссарами в войне не победить, нужны профессионалы, а где их было взять, кроме как царских.
Писатели приходили к нему часто. Критик Валентин Курбатов пишет, что на книжном шкафу Евгения Павловича висел его парадный китель и что они беседовали с ним, с кителем, когда были одни.
При мне он уже висел на двери спальни, тяжелый от медалей, увенчанный пятью боевыми орденами, в числе которых был и один «командирский» — орден Александра Невского, которым награждали в исключительных случаях генералов и старших офицеров «за умелое командование войсками». Помню, меня удивило место для кителя — напротив кровати, пока не догадался, что так, наверное, Нечаеву удобнее с ним разговаривать, словно бы с самим собой, молодым, только что вернувшимся с войны и стоящим в дверях.
О чем они беседовали долгими ночами, когда затихала за окном беспокойная Коммунальная улица и время, казалось, тоже останавливалось? О горьком, трагическом, пережитом, ушедшем безвозвратно? Но были, наверное, и радостные воспоминания.
Теперь остается только жалеть, что почти ничего из его рассказов не записано. Записи вел Валентин Курбатов, и они наиболее точны, потому что заносились на бумагу Курбатовым сразу после прихода домой. Немного записывал и автор этих строк, но после обработки они не передают непосредственности нечаевской речи. Надо было использовать магнитофон, и думалось об этом, но откладывалось на потом.
— Один я остался. Последний солдат, — сказал как-то Нечаев.
Он и был последним солдатом из псковских писателей-фронтовиков. Другие — Васильев, Виноградов, Маймин, Гейченко, Григорьев — ушли раньше. Нечаев уйдет в 1999 году.
В шестидесятые-семидесятые годы Александр Иванович Гусев проживал в деревянном домике на углу улиц Некрасова и Ленина, как раз напротив центрального входа в Дом Советов. Не знаю, какие чувства испытывали при виде невзрачного дома секретари обкома и председатель облисполкома, ежедневно приезжавшие на работу. Не знаю, каким образом Александру Ивановичу это жилище досталось, собой оно представляло лишь кухню и крохотную спальню без окон, до самого потолка заставленную полками с редкими книгами и собранием художественных альбомов.
Читать дальше


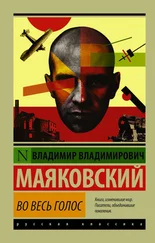
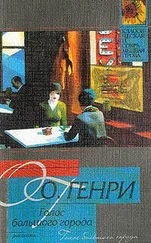
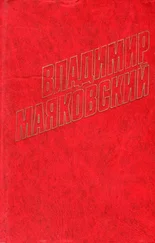

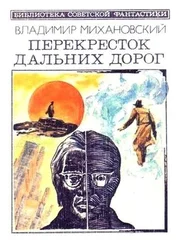

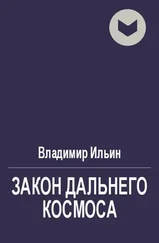
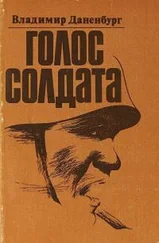
![Сергей Протасов - Цусимские хроники - Мы пришли. Новые земли. Чужие берега [сборник litres]](/books/436040/sergej-protasov-cusimskie-hroniki-my-prishli-novy-thumb.webp)