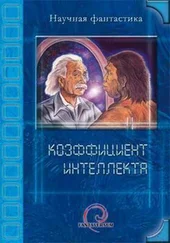Вот что я должен сказать тебе: ты стала недоступней моему пониманию, чем любое бессловесное животное; и еще — этим своим письмом ты нанесла мне удар, равного которому по жестокости мне еще никто никогда не наносил.
Не претендуя на мученический венец, я все же могу, как мне кажется, утверждать, что за тридцать с лишком лет я наполучал достаточно ударов и преуспел в распознавании и оценке причиняемого зла; ты слишком хорошо знаешь мое прошлое и потому не станешь возражать.
А ведь я было начал приходить в себя. Неужели в тебе совсем нет жалости?
Вопрос этот требует ответа, на обдумывание которого, очень может быть, уйдет вся твоя жизнь, но и меня ты ставишь в трудное положение, так что я чувствую необходимость объясниться раз и навсегда. Считаю, что многое было сказано в тот день, когда мы дали обещание друг другу весной прошлого года. Мои слова следовало понимать в буквальном смысле, даже если они и были произнесены впопыхах. Попробуй вспомнить, что я тогда сказал. Не могла же ты забыть.
И все же — чем бы ты ни руководствовалась — если ты хочешь, я снова повторяю. Только на этот раз не словами. Слова уже доказали свою несостоятельность. На этот раз прими нечто, что ты сможешь увидеть, потрогать и надеть; нечто весомое — оно не выскочит из памяти. Найдешь ты его в посылке, в пакетике поменьше, — это мамино кольцо, которое она, несмотря на свою печаль (или, может, иные чувства), носила до самой смерти и унесла бы с собой в могилу, если бы Хэт не подошла к гробу за час до похорон, не стянула его с ее пальца и не отдала мне. С тех пор оно мое. Теперь я отдаю его тебе — вне зависимости от того, какой смысл ты вложила в свои слова.
Если ты примешь его и будешь носить — на левой руке, вместе с обручальным — оно станет символом нашего воссоединения и победы, моей во всяком случае (хоть и не без твоей помощи), над силами, разрушившими союз моих родителей. Если же ты не захочешь его носить, то, пожалуйста, спрячь понадежней для Роба, до того дня, когда оно ему понадобится или когда он окажется достаточно взрослым, чтобы понять все значение этого кольца в нашей с тобой жизни и в жизни родителей его отца. Уверен, что ты сообщишь мне свое решение.
Приняв его, ты примешь и меня. Если ты того хочешь, я приеду за вами в канун Нового года, в любую погоду. Рождество же я решил посвятить отцу.
Второй пакет для Роба, в нем — лучший фургон, который мне удалось здесь найти; такую игрушку, помню, отец подарил мне, когда я был совсем еще маленьким, помню также, как он таскал меня по дому на руках, хохотал и приговаривал: «Мы с Форрестом едем навстречу счастью», не знаю, может, Роб еще слишком мал для такой игрушки, но что бы ты ни сочла нужным и ни решила, я надеюсь, ты позаботишься, чтобы ребенок получил от меня что-нибудь на свое первое рождество.
Всегда твой,
Форрест. (Инициалы на внутренней стороне кольца означают: «Робинсон Мейфилд — Анне Гудвин»).
Он вложил письмо в конверт и надписал его: «Штат Северная Каролина, г. Фонтейн, мистеру Кендалу, для Евы Мейфилд». Затем взял крепкий снарядный ящик, который Грейнджер достал для этой цели в городе, и, выстлав его газетами, чистыми тряпками и соломой, бережно упаковал три своих продуманных подарка: фургон для Роба (красный, с откидными деревянными боками и резиновыми шинами), кольцо для Евы (в маленькой коробочке, в которой оно пришло от ювелира лет сорок назад) и сверху письмо. Затем настелил верхний слой тряпок (включая свою чистую белую рубашку, почти неношеную) и забил крышку синими кровельными гвоздями с широкими шляпками, и синий цвет их напомнил ему Атлантический океан (отец брал их как-то с собой в Норфолк). Затем он с помощью Грейнджера отнес ящик в дровяной сарай, где отыскалась ветхая тележка, принадлежавшая когда-то брэмовским детям. Грейнджер, дурачась, с хохотом, впрягся в оглобли, и они отправились под гору вниз, на вокзал.
2
В одиннадцать часов следующего дня Сильви вышла из дверей фонтейновской почты: Кендалам не пришло ничего. Утро было ясное и земля крепко промерзла, но она не накинула ни шали, ни шарфа — всей одежды платье и фартук, косынка на голове да ботинки, принадлежавшие когда-то ее брату Доку. Поэтому шла она быстро, торопясь назад в тепло, и в такт шагам в уме ее, сменяя одна другую, мелькали приятные мысли — как-никак близилось рождество, подходил конец трудному, неудачному году — и обострялось ощущение (впервые за многие месяцы после смерти ее ребенка испытанное в это утро): то, что ждет ее впереди, лучше того, что осталось позади. К тому же она была влюблена.
Читать дальше