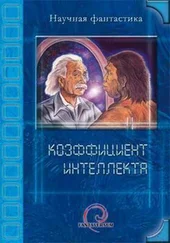Поднявшись по зеленому склону, Форрест остановился, повернувшись лицом к лежащей внизу долине. Заслонив рукой глаза от солнца, он сказал:
— Листьям пора бы вполне развиться. — Было 15 мая, тихий воскресный день.
Ближайшее дерево находилось от них метрах в четырехстах — во дворе у Хэт. Кеннерли внимательно вгляделся в него, подставив лицо солнцу.
— У этого не разовьются, — сказал он. — Да оно все равно засыхает.
— Отчего это? — спросил Форрест.
Кеннерли прочертил длинным белым пальцем воздух, словно провел по коре — от кроны до корней.
— Лучше срубите его завтра же. От него все другие пропадут.
— Отчего это? — повторил Форрест.
— Заражено, — ответил Кеннерли. — Волосистая тля.
— Скажите об этом Хэт, когда мы вернемся.
— А тут все не ваше? — спросил Кеннерли, описав рукой полукруг.
— Нет, моей сестры, — ответил Форрест.
— Но когда-нибудь будет ваше?
— Нет, что вы. Отойдет ее сыновьям. Все это досталось ей от мужа.
— А где же мейфилдовские владения?
Форрест посмотрел вдаль, затем указал на холмы на противоположном берегу речки. Для нормального зрения ничем не примечательные зеленые холмы.
Но Кеннерли, вглядевшись, сказал:
— Это не кладбище ли?
— Да, — ответил Форрест. — Там похоронена моя мать. Это их семейное кладбище. А дом разрушен.
— Как была ее фамилия? — спросил Кеннерли. — Ведь не Мейфилд же.
— Гудвин, — ответил Форрест. — Анна Гудвин.
Кеннерли продолжал внимательно вглядываться в противоположный берег. Форрест посмотрел туда же. Он прищурился, напряг зрение, но разглядеть могил так и не смог, хотя среди учеников ходили легенды о его зоркости.
Но тут к нему повернулся Кеннерли.
— А что здесь вашего? — спросил он.
— Простите? — переспросил с улыбкой Форрест.
Кеннерли обвел рукой открывавшийся им пейзаж.
— Что принадлежит вам из всего этого?
Уж что-что, а дом-то Форрест видел — при ярком солнечном свете крыша казалась черной — видел пятно на карнизе как раз над комнатой, где сейчас Ева собирала вещи и укладывала их в чемодан, уничтожая последние следы своего присутствия. Она ничего не принесла в этот дом кроме одежды, в которой переступила его порог, и своего полного жизни тела, трепещущего надеждой и стремлениями. Эти надежды и стремления она вкладывала теперь в ребенка, которого заберет с собой, оставив ему… Что оставив? На ум пришла только тиковая перина на их двуспальной кровати, которую они перевернули, чтобы потемневшие пятна крови приходились вниз — подсохшие, заскорузлые пятна ее крови. Только и всего, подумал он. Но Кеннерли он ответил:
— Ваша сестра и ваш племянник. Кое-какие книги и записки. Одежда.
Кеннерли улыбнулся — впервые после того, как сошел с поезда минувшим вечером.
— Выходит, хорошо, что вы так любите читать. — Обогнав Форреста, он полез дальше вверх по склону.
— У вас есть еще сорок пять минут. Погуляйте один. А я пойду домой. Может, Еве понадоблюсь.
— Не понадобитесь, — сказал Кеннерли.
— И тем не менее… — ответил Форрест. Он начал уже спускаться и смотрел себе под ноги; склон был неровный, каменистый. Потому он и не видел того, что мог легко увидеть каждый: в окне спальни, защищенная от солнца козырьком крыши, стояла одетая и готовая к отъезду Ева; глаза ее, минуя Форреста, смотрели прямо в глаза Кеннерли (оба спокойные, чуть ли не улыбающиеся), на руках у нее Роб, туго спеленатый, накормленный, сонный — кокон, каждой клеточкой уже творящий свою собственную жизнь, готовящийся расцвести для матери — для нее одной.
3
Ночью Хэт приснился ее покойный муж Джеймс — пришел он тихий и сдержанный, как в жизни, как в редких сновидениях; подобно большинству ее снов, этот просто воспроизводил однажды пережитое. Во сне она лежала на их двуспальной кровати, но одна. Совсем еще юная, шестнадцатилетняя. Он был старше — тридцатилетний. Они только что поженились; ее мать умерла за три недели до этого, и ей нужен был кто-то, кто заботился бы о ней и о ее брате Форресте. Кровать, на которой она лежала в ожидании, находилась в доме Джеймса; в ней прежде спал Джеймс со своей первой женой, умершей восемь месяцев назад. Чего же, собственно, она ждала? Кое-что она знала от школьных подруг, от негров и отчасти надеялась, что все это так и будет, только никак не могла представить себя за этим сложным занятием — ей казалось, что она слишком худая и нескладная. Да и на то, чтоб Джеймс оказался хорошим учителем, рассчитывать было трудно: детей у него никогда не было (дом был пуст, и только на чердаке, в одной из комнаток, спал Форрест). Жена Джеймса умерла от рака груди — обе груди ее были изъедены — пожирая их, рак полз прямо к сердцу, а потом вгрызся и в него.
Читать дальше