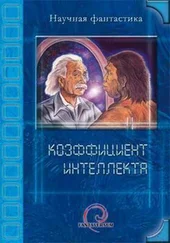Когда припадок прошел, он первым долгом посмотрел по сторонам — не видел ли его кто-нибудь, но вокруг не было ни одного негра, он справился сам. С трудом отодрал пересохшие губы от сухих зубов, положил руки на руль, убедился, что они ему повинуются, почувствовал, что в мозгу что-то проясняется — небольшое пространство, с ладонь, стало прозрачным и светлым.
Этого было достаточно, чтобы дать ему возможность окинуть взглядом свою жизнь и отчетливо понять, что она собой представляет, — а ведь с тех пор, как сорок лет назад он впервые услышал о дарах судьбы, он всегда просил об одном — скромное, вполне осуществимое желание: обычный дом, в котором шла бы обычная жизнь. Быть порядочным и рассудительным, иметь хорошую чистую работу — часов десять в день, так, чтобы, не растратив сил, терпеливым и обходительным возвращаться под вечер домой — к женщине, с которой они соединили жизнь по обоюдному влечению (и которая продолжала бы любить его — так же, как он ее — быть внимательной и нежной), к своему ребенку от этой женщины (он никогда не хотел двоих детей, не доверяя своему запасу внутренних сил). У людей бывало все это — не у миллионов людей, конечно, но кое у кого. Он сам знал таких, вроде бы не такая уж несбыточная мечта, не луну с неба хотелось ему в конце концов. Он вовсе не просил у судьбы постоянства, ее навек застывшей улыбки; он согласен был на то, чтобы старость и несчастья настигли его раньше, чем других. Он просил всего лишь двадцать — ну, скажем, тридцать — лет полноценной жизни, воспоминания о которых будут поддерживать его остаток жизни и помогут стойко встретить смерть.
Ну а если говорить о заслугах — разве же он этого не заслужил? Что такого страшного он сделал? Один раз изменил жене? Худшего он не помнит. Если бы обнародовать устав, по которому люди должны жить (а он твердо верил, что такой устав существует, и хотя уже лет двадцать не переступал порога церкви, ни разу в этом не усомнился, так же как и в том, что устав этот справедлив, доступен пониманию и выполним), выяснилось бы, что самым тяжким его проступком было то, что он нарушил клятву любить одну только Рейчел — нарушил на полчаса.
Да и не нарушал он ее вовсе. Ни на секунду! Любил он всегда одну только Рейчел. А с Мин было что угодно, только не любовь. Он всего лишь дал ей потереть болезненный узелок, образовавшийся в мозгу после того, как он неделями обуздывал себя, оберегая Рейчел. За этим можно было обратиться к кому угодно; просто Мин он знал с детства — надежный друг, который всегда рад был прийти на помощь.
И так она обрадовалась, что растерла теперь его всего в кровь, оголила нерв и к тому же стала требовать его жизнь. Что ж, может, он и отдаст ей свою жизнь. Ведь больше никто не просит. А девать ее все равно куда-то надо. Вот разве умереть. Он вспомнил утро, проведенное давным-давно на высоком берегу реки Джеймс, однако ни мальчики, ни черепаха не пришли на память. Поездку нетрудно повторить. Но нет, он хотел остаться жить. А собственно, зачем? Ради Хатча и Грейнджера? Так оба они уже достаточно хлебнули с ним горя. Ева и Рина? Может, они в какой-то мере и заслужили страшную смерть своей матери (он никогда над этим не задумывался), но ему-то карать их не за что — они всегда желали ему только добра. Ради Мин, так впутавшейся в его жизнь, что теперь ей уже не высвободиться. Как бы она ни угрожала… Или обещала? (Пожалуй, скорее обещала — свободу, моральную и физическую.)
Нет, не ради кого-то из них. Никто из них не мог его ни от чего удержать. Это он теперь ясно видел. Не видел он, однако, что существует причина более глубокая, не понимал, что — истинный внук Робинсона — больше всего в жизни он ценил наслаждение, в котором не отказывал себе на протяжении двадцати пяти лет. Пусть он сейчас решит угомониться, все равно полностью искоренить эту черту он не сможет.
Он пошел к Сильви.
8
— Найдется у тебя что-нибудь поесть? — спросил он.
— Тебя же ждут там, — сказала Сильви, указывая в сторону кендаловского дома. — Весь день сегодня я жарила курицу, готовила фасоль и пудинг. Хатч мороженое крутит…
Роб помотал головой. — Не могу. — Он стоял на ступеньках ее крыльца.
Сильви казалась громадной по ту сторону сетчатой двери, появившейся одновременно с электричеством (зажженные лампочки привлекают насекомых). Она внимательно посмотрела на него. — Ты это что, Роб?
— Я ж говорю, что голоден.
— Ничего ты не голоден. Что ты натворил?
— Работу потерял, — сказал он.
Читать дальше