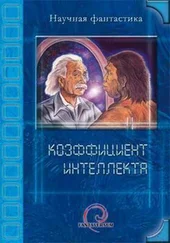— Посмотри-ка, мама! — сказал Паркер, доставая из саквояжа подарок — щетку и гребенку в целлулоидной коробочке. Она взяла коробочку — не глядя на него, не произнеся ни звука, — поднялась по ступенькам, протиснувшись между ними, отпихнув Лину и детей, и, войдя в дом, скрылась из вида.
Тогда наконец вперед вышли и остальные, в надежде на подарки.
6
У машины Паркер сказал: — Ну, хоть вас-то узнала.
Роб ответил: — Нет, не узнала. Она приняла меня за моего отца.
— Тогда породу правильно определила, — сказал Паркер.
— А что с ней? — спросил Роб. — Ведь она не такая уж старая.
— Износилась, — сказал Паркер.
— Поговорит она с тобой потом?
— Может, поговорит. А может, и нет. Она ведь знает, что мне скоро помирать, давно знает. Потому и бросила меня — не хотела видеть, не хотела лишнего горя.
Роб кивнул, веря ему и не веря, отворил дверцу и уселся за руль.
Паркер подошел ближе, нагнулся к самому его уху и, сильно понизив голос, проговорил внятно: — Вы ведь так и не дали мне объяснить вам.
— Что объяснить?
— Почему я рад, что мой сон скоро сбудется.
— Как будто я не понимаю, — сказал Роб. — Теперь я это понимаю. — Он включил мотор.
Но Паркер не отходил. Он стоял, положив руки на опущенное стекло, все так же близко придвинув лицо к Робу.
— Желаю удачи, — сказал ему Роб. — И все-таки берегись! Он ведь может и передумать.
Паркер усмехнулся. — А вот это вы тоже не дали мне объяснить — почему он так с вами обошелся. — Он растопырил пальцы и широко раскинул руки, словно хотел заключить в объятия машину, словно это и была история жизни Роба, плотно сжатая и движимая.
— Можно коротко? — спросил Роб. — А то я и так сильно опаздываю.
— Можно. Потому что он любит вас. И призывает вас к себе.
Роб помолчал, потом поблагодарил его, вытащил два доллара из своего тощего кошелька и сказал: — Купи Флоре что-нибудь, что ей нужно.
— Новую жизнь — вот что ей нужно, — сказал Паркер и отступил на шаг от машины; деньги, однако, взял.
— Ну тогда, что захочет, — сказал Роб и тронулся.
Один из мальчиков бежал за ним до самых ворот.
7
К тому времени, как Роб снова доехал до Фонтейна, оказалось, что часы, проведенные с Паркером (дружелюбным и спокойным, когда дело касалось чужих бед), пошли ему во вред. Место, до которого дотронулись Бо и Флора, оказалось неожиданно очень чувствительным. Проезжая первые лачуги негритянской окраины, он чувствовал не только изнеможение и отчаяние, как бывало в обществе Мин, но и внезапный жгучий страх, будто ему перерезали вену под коленом и оттуда потоком хлынула кровь, грозя вытечь до конца, прежде чем он сообразит, что делать, или обратится за помощью. Ева, Рина, Хатч, Грейнджер — никто из них не казался сейчас желанной целью, — скорее, они виделись ему как еще несколько пар жадных рук, готовых вцепиться в тело, уязвимое, подобно лишенному века глазу. Вернуться назад в Роли он не мог — там ждала его решения Мин. Не мог поехать и в Ричмонд — мешало обещание, данное Хатчу.
Налево, в отдалении, он увидел свет в окошке у Сильви. Остановил машину и стал всматриваться. Домик ее стоял ярдах в двухстах от дороги, и сквозь густую молодую листву виден был только свет. Ни силуэта в окне. Ни звука. Электричество ей в домик провели уже около года назад, после того, как она сказала однажды утром: «Мисс Рина, я теперь стала побаиваться жить впотьмах. Или проведите мне электричество, или я к вам перееду». Поскольку единственная комната для прислуги в доме Кендалов была занята Грейнджером, Рине оставалось только передать просьбу Сильви Кеннерли. Не прошло и недели, как он исполнил ее желание, да еще купил ей радио — это ее на какое-то время утихомирило, хотя недавно она объявила, что будет уходить домой в шесть, а то, мол, поздние возвращения наводят ее на грустные мысли: «Начинаю думать, что так и умру в одиночестве». Теперь они готовили ужин сами, а Грейнджер мыл потом посуду. Роб решил: «Поеду-ка я к Сильви», — и включил мотор, заглохший при резком повороте.
Но он не мог сдвинуться с места. Его начала бить дрожь. Здесь, на небольшом отрезке сухой немощеной дороги, на расстоянии одной мили от дома, где собралась вся его кровная родня — сильные и здоровые люди, за которых он не нес никакой моральной или материальной ответственности, — от дома, где он прогнил первые счастливые годы своей жизни, до сих пор хранящиеся у него в памяти, и куда ход ему отнюдь не был заказан, его вдруг стала бить сильнейшая дрожь — так остра была тоска, зародившаяся, подобно предродовым схваткам, где-то в глубине живота; она поднялась к груди, горлу, заполнила рот, черепную коробку, заслонила все; он смог только подумать: «Слава тебе господи, я умираю !» — и целиком отдался на ее милость.
Читать дальше