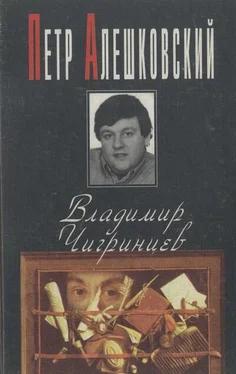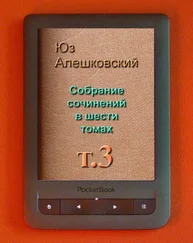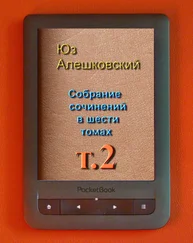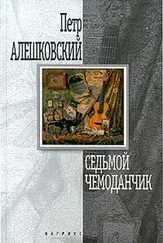Правда, ты живешь в глубоком тылу, в далеком и знойном Ашхабаде, но ты не одинок. Ты работаешь со студентами, которые тебя обожают, рядом с тобой жена (хоть вы и не оформили отношения, что лично меня никогда не волновало). Она любит тебя и заботится о тебе. Она не принадлежит к той категории женщин, сущность которых исчерпывается тем, что они являются «постельной принадлежностью» и ничем больше. Она для тебя сейчас самый близкий человек из всех, любящий и заботливый, твой друг, твой товарищ, строжайший критик и помощник в работе, как бы порой ты ни стонал и ни лез на стенку от ее замечаний. А университетская среда — разве этого мало? А Котя, а Наташа Рейзен? Имел ли я что-нибудь подобное за 9 месяцев моего отсутствия из Москвы? Но ты не ценишь этого.
А ты все тоскуешь, переживаешь одиночество и, как когда-то Катюша Чигринцева, сходишь с ума, что в твоей жизни все спокойно и благополучно, что нет романтических бурь и порывов, что ты не ранен, не покалечен, не прошел сквозь кровь, боль, страдания, а занимаешься тем, что воспитываешь кадры студенческой молодежи.
Знаешь, если бы у меня было два свободных дня, чтобы засесть писать, я был бы счастливейшим человеком в мире, но у меня нет вечера, чтобы сходить в баню, и я третью ночь ночую на своем столе, на службе, не имея времени попасть домой. И все же всякую свободную минуту я стремлюсь использовать, чтобы что-то сделать. Ведь если жизнь моя будет прервана, то что останется после меня? Очень мало. Одна книжка. Все остальное, даже диссертация, — все это лишь незавершенные вещи, наброски, планы, искания. И хочется жить, чтоб хоть что-нибудь успеть сделать, чтоб оставить какой-нибудь след, чтоб, отправляясь в «ту страну, откуда путник не возвращается», знать, что жизнь прожита не напрасно.
Единственное, что огорчает меня в жизни, когда я оглядываюсь на прошлое, — это то, что у меня не хватило сил, таланта, уменья сделать то, что хотелось, написать те работы, о которых мечтал столько лет.
Мне кажется, что тебе, во всяком случае, не имеет смысла унывать и огорчаться. Именно ты можешь быть и нужен и актуален сегодня. Ты мог бы органически включиться в современность — быть ученым-борцом, ученым-публицистом и с присущим тебе пафосом, убежденностью и честностью живым и общественным словом бороться с врагом, разоблачая его варварскую, звериную сущность, вскрывая подлинное содержание той идеологии, которую спешит утверждать фашизм.
И эта публицистическая деятельность и занятия со студентами — то, что делает жизнь небессмысленной, даст тебе уверенность и сознание, что ты и в тылу борешься вместе со всеми за общее дело — за освобождение страны, за разгром врага. Сейчас все должно быть пронизано ненавистью к тем, кто против нас. Мне кажется, что тебя всегда тянуло к публицистике, к широким культурным обобщеньям, к выходу из сферы «только науки и культуры». Не правда ли? Так отчего ж не попробовать?
Ты писал, что прежде всегда «немножко презирал» меня за МХАТ, за Достоевского, за «интеллигентщину» и смотрел на меня сверху вниз. Но теперь, кажется, произошла метаморфоза, и на меня, «так замечательно выросшего и тебя переросшего», ты будто бы можешь смотреть не иначе как «снизу вверх», с чувством «восхищения» и «радости» за меня.
Не надо, Паша. Я могу заподозрить тебя в неискренности, м. б., бессознательной, и что еще хуже — в ханжестве. Знаешь ли, бывает унижение пуще гордости. В этом есть что-то от Фомы Опискина (привожу пример из близкой тебе сейчас сферы — из Достоевского!). Я гадкий, я скверный, смотрите, как я пал, но не смейте даже думать о том, что я действительно такой, как говорю. Я не ниже, а выше всех!
Уступая тебе во многом и понимая это, я привык в личной жизни быть с тобой как равный с равным , смотреть нам с тобой друг на друга, и в прошлом, и теперь, «снизу вверх» или «сверху вниз» — несправедливо. Я предпочитаю смотреть тебе прямо в глаза и не являюсь поклонником ни «птичьей», ни «лягушачьей!» перспективы. В наших отношениях неуместны ни самоуничижение, ни мания величия. Давай уж лучше пусть будет опять по-прежнему.
Я не знаю, доставит ли тебе это письмо удовольствие, найдешь ли ты его «цельным», «мужественным» или «настоящим»? Не знаю — и не думаю об этом. В нем есть только одно достоинство — и, м. б., ты оценишь его — это искренность! Да иначе и не могло быть — ведь это наша долго ожидаемая встреча. Это мой «монолог», м. б., и не справедливый, но сказанный честно. Ты имеешь право исправить меня и воспользуешься этим, наверное. Буду ждать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу