У меня перехватило дыхание, когда я поняла, что эти её воспоминания относятся к 1890-м годам!
Чем же всё закончилось? Увы, она не помнила.
– Помню только лошадь, привязанную к ограде.
Какая жалость! Жизнь так быстротечна, а прошлое так богато. Мне хотелось услышать больше. Её разум в тот момент совершенно прояснился, и, зная, как быстро он может снова затуманиться, я спросила, не находила ли она дисциплину и мелкие ограничения медсестринства невыносимыми.
– Нисколько. После ограничений и строгости жизни в семье медсестринство казалось сплошной свободой и приключением. У нас не было тех прав, какими вы, молодые, обладаете сегодня. И это касалось всех нас. Помню кузена Барни. У его матери, моей тёти, была горничная, француженка. Однажды – в середине дня, мои дорогие, – она, моя тётя, вышла на террасу и обнаружила сидящую на стуле горничную и Барни, стоящего на коленях и надевающего ей на ногу ботинок. Ботинок.
Она замолчала и оглядела всех.
– Не нижнюю юбку или что-нибудь такое. Всего лишь ботинок. Но тётушка завизжала и упала в обморок. Горничную тут же уволили, а семья была столь возмущена, что Барни вручили десять фунтов и билет до Канады в один конец. Больше его не видели и ничего о нём не слышали.
Майк предположил, что отправка в Канаду была, возможно, лучшим, что могло с ним произойти. Сестра Моника Джоан надолго задумалась, прежде чем ответить.
– Хотелось бы в это верить. Но с той же долей вероятности бедный Барни мог умереть от голода или болезней в суровую канадскую зиму.
Это мысль отрезвляла.
Я попросила рассказать ещё какие-нибудь истории. Она снисходительно мне улыбнулась:
– Я здесь не для того, чтобы вас развлекать, мои дорогие. Я здесь по милости Божьей. Вот уже девяносто лет. Слишком долго… слишком долго.
Сестра Моника Джоан молчала с минуту, и никто не решался заговорить. Она столько видела, столько сделала за свою жизнь: боролась за независимость в юности; вступила в монашеский орден в зрелости; занималась медсестринским делом и акушерством в лондонских доках во время войны, когда ей было почти восемьдесят. Кто мог сравниться с ней по опыту?
Со слегка удивлённым, слегка насмешливым выражением ясных глаз она посмотрела на нас – таких молодых, таких легкомысленных, несерьёзных. Её локоть покоился на столе, тонкие пальцы подпирали подбородок. Мы сидели как заколдованные.
– Вы все так молоды, – задумчиво проговорила она. – Молодость – это первый прекрасный цветок весны.
Подняв голову, она простёрла к нам свои выразительные руки. Лицо её сияло, глаза сверкали, голос звучал радостно и торжественно:
– А посему… Пойте, милые, пойте, пока лепестки не увяли, питая цветы другой весны.
Кончита Уоррен ждала двадцать пятого ребёнка. За последний год я видела их семью довольно часто, потому что старшая дочь Уорренов, двадцатидвухлетняя Лиз, оказалась портнихой моей мечты. Она шила одежду с тех пор, как у нее появилась первая кукла. Ей всегда хотелось заниматься только этим, рассказывала она мне. Оставив школу в возрасте четырнадцати лет, Лиз сразу пошла подмастерьем в ателье высококлассных портних, с которыми работала до сих пор. Обычно она не принимала частных клиентов на дому: бардак там стоял такой, что просить дам прийти туда на примерку девушка не могла. Однако, так как я уже привыкла к их дому, нас с ней это не беспокоило. Лиз была мастером своего дела и на протяжение многих лет с удовольствием шила для меня одежду.
Я всегда была модницей и отдавала составлению гардероба много сил и времени. Вся моя одежда шилась специально для меня, и от готовых магазинных вещичек я воротила нос. Сегодня это может показаться необычным и жутко дорогим, но в 1950-х дела обстояли по-другому. На самом деле, выходило даже дешевле. Одежду действительно хорошего качества можно было пошить за мизерную долю того, сколько бы она стоила в магазинах. Отличный материал удавалось найти на уличных рынках и купить за бесценок. Обычно я сама рисовала эскизы или адаптировала фасоны. Когда я жила в Париже, мне хотелось присутствовать на показах великих французских кутюрье – Диора, Шанель, Скиапарелли. Открытие сезона было, конечно, забронировано для прессы и богачей, но через две-три недели, когда ажиотаж спадал, показы продолжались едва ли не дважды в неделю, и их мог посетить любой желающий. Я их обожала и тщательно делала заметки и зарисовывала то, что было бы мне к лицу, чтобы затем заказать себе такие же наряды.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

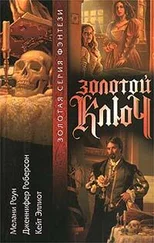



![Дженнифер Арментраут - Отражение [сборник]](/books/28770/dzhennifer-armentraut-otrazhenie-sbornik-thumb.webp)






