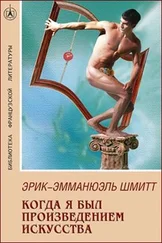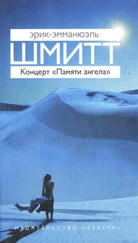– Действительно, что такое истина?
Он вернул вопрос мне.
И как при возврате мяча, теперь дрожал я, ощутив тяжесть вопроса, и тоже испугался. Нет, я не был хранителем истины, у меня была только власть, нелепая власть решать, что такое добро и что такое зло, избыточная власть над жизнью и смертью, гнусная власть.
Воцарилось молчание.
Мяч лежал между нами.
Мы молчали.
Молчание говорило вместо нас. Мы слышали тысячи слов, быстрых, смутных, взволнованных, неясных.
И молчание, как ни странно, говорило мне обо мне. Что ты делаешь здесь? – спрашивало меня молчание. Кто дал тебе право распоряжаться чужими жизнями? Кто направляет тебя в принятии решений? Я ощутил огромную усталость. Это не была усталость от власти, эту усталость я хорошо знал, она исчезает после хорошего отдыха. Это была подлая усталость, которая медленно и исподволь отравляла тело, притупляя его реакции: это была усталость от абсурдности власти. Чего у меня было больше, чем у этого нищего еврея? Стратегического ума, римского происхождения, должности, давшей мне власть, и оружие, и многое другое… Но имело ли все это ценность?
– Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше.
Вот как переделал еврей мой вопрос об истине. Что есть высшая истина, за что стоит сражаться? Стоит умереть? Или остаться жить? Действительно, а что есть в мире стоящего?
Чем сильнее разрасталась тишина, тем более одиноким я себя чувствовал. И подавленным. Но, как ни странно, было что-то завораживающее в подобном состоянии парения. Я был свободен. Вернее, освобожден от вериг, связей, цепей, глубокие следы которых я ощущал на коже, но это не были оковы рабства, это были оковы власти…
Из долгой задумчивости меня вывели нетерпеливые крики священнослужителей за дверью, и я попытался спасти Иисуса.
Итак, что я видел? Ничего. Что я понял? Ничего, но теперь знал, что кое-что может ускользать от моего понимания. В деле Иисуса я весь последний месяц пытался спасти свой разум, спасти во что бы то ни стало от тайны, спасти разум даже ценой безумия. Я проиграл и понял, что существует непознаваемое. Это сделало меня менее самолюбивым, я смирился со своим невежеством. Я утерял уверенность: уверенность в управлении собственной жизнью, уверенность в понимании мирового порядка и людей, но что я выиграл? Я часто жалуюсь Клавдии, что был римлянином знающим, а стал римлянином сомневающимся. Она рассмеялась. Она хлопала в ладоши, словно я представлял ей жонглерский номер.
– Сомневаться и верить – одно и то же, Пилат. Безбожно только равнодушие.
Я противлюсь тому, чтобы она сделала из меня последователя Иисуса. Прежде всего, это запрещено моими функциями: мои политические союзники, священники Храма под руководством Каиафы, с яростью восстают против новой веры и охотятся за учениками, за Никодимами, за Иосифами из Аримафеи, за Хузами, даже за беднягой Симоном из Кирены, прохожим, несшим крест. И, кроме того, у меня накопилось множество вопросов, но не сложилось определенного мнения.
Помнишь любимую максиму Кратериоса? «Никогда не верь в то, во что расположен верить». Во время наших дискуссий с Клавдией я часто цитирую нашего учителя.
– Ты хотела поверить в то, что говорил Иисус, Клавдия, даже до того, как он доказал, что был посланцем своего Бога.
– Естественно. И желаю верить, что доброта бесценна, что любовь должна преодолевать любые предубеждения, что богатство вовсе не то, к чему надо безудержно стремиться, что жизнь имеет смысл и что смерти не следует бояться.
– Если ты нуждаешься в вере, ты только удовлетворяешь свою потребность в ней. Ты не обретаешь критериев истины.
– Что такое критерии истины? Тревога? Неудовлетворенность? По-твоему, надо верить лишь в то, что нас угнетает и ведет к отчаянию?
– Я этого не говорил.
– А, вот видишь! Ни удовольствие, ни его отсутствие не могут служить критериями истины. Не надо ни рассуждать, ни знать. Достаточно верить, Пилат, верить!
Эта вера требует слишком большого напряжения. Пока она не создала никакого культа по подобию греческих или римских ритуалов, но поднимает человеческий дух на всепоглощающий труд.
Именно поэтому мне кажется, что у нее нет будущего.
Я часто объяснял это Клавдии. Прежде всего, эта религия родилась в неподходящем месте. Палестина приютила крохотный народ, не имеющий значения и влияния в сегодняшнем мире. К тому же Иисус учил лишь неграмотных; он выбрал в ученики суровых рыбаков Тивериадского озера, которые, кроме Иоанна, говорили лишь на арамейском, едва знали еврейский и очень плохо греческий. Во что превратится его история, когда умрут последние свидетели? Он ничего не написал, кроме как на песке и на воде; не написали ничего и его ученики. И наконец, главной его слабостью было то, что он слишком быстро ушел. Он не использовал время, чтобы убедить достаточное количество людей, а главное, людей влиятельных. Почему он не посетил Афины или Рим? Почему он предпочел покинуть Землю? Если он действительно Сын Бога, как утверждает, почему он не захотел остаться с нами навечно? И этим убедить нас. И помочь нам жить в истине. Если бы он вечно оставался на Земле, никто не подверг бы сомнению его послание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу