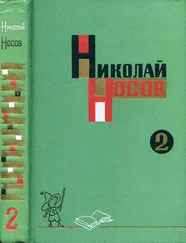Пока Перри пел, Отто набросал в альбоме его портрет. Сходство было довольно сильное, к тому же художник уловил одну не самую заметную особенность в лице своей модели — некую злокозненность, злое детское озорство, наводящее на мысль о недобром купидоне, у которого в колчане вместо любовных стрел отравленные. Он был обнажен до пояса. (Перри было «стыдно» снимать брюки, «стыдно» носить плавки: он боялся, что людям будет «противно смотреть» на его изувеченные ноги, и в связи с этим, несмотря на все свои мечты о подводном плавании, все разговоры об аквалангах, ни разу даже не окунулся.) Отто воспроизвел татуировки, украшающие мускулистую грудь Перри, его плечи и мозолистые, но маленькие, как у девушки, кисти рук. В альбоме, который Отто отдал Перри в качестве прощального подарка, было также несколько набросков Дика — «этюды обнаженной натуры».
Отто закрыл альбом, Перри убрал гитару, и Ковбой, выбрав якорь, запустил двигатель. Пришло время поворачивать. До берега было десять миль, а вода уже начала темнеть.
Перри все уговаривал Дика порыбачить.
— Такого шанса может больше никогда не быть, — сказал он.
— Какого «такого»?
— Поймать крупную рыбу.
— Черт, опять мне паршиво, — пробурчал Дик. — И тошнит. — У Дика часто случались головные боли, сильные, как при мигрени, — это и называлось «мне паршиво». Он считал их последствием той аварии. — Будь друг, малыш, давай посидим очень, очень тихо.
Мгновением позже Дик забыл о боли. Он вскочил на ноги и заорал от восторга. Отто и Ковбой тоже заорали. Перри подцепил «крупную». Десятифутовая рыба — парусник — билась на крючке, прыгала, выгибалась радугой, ныряла, уходила в глубину, туго натягивая лесу, поднималась, взлетала, падала и снова поднималась. Прошло больше часа, прежде чем промокшие от пота рыболовы втащили парусника в лодку.
В гавани Акапулько вечно околачивается старик с фотоаппаратом в древнем деревянном кожухе, и когда «Звездочка» причалила к берегу, Отто заказал ему шесть фотографий Перри в обнимку с уловом. С точки зрения техники снимки оказались ужасными — коричневые и полосатые. Но все же это были замечательные фотографии, главным образом благодаря выражению лица Перри, взгляду, полному неомраченного удовлетворения, блаженства, словно могучая желтая птица из снов наконец подхватила его и несет к небесам.
В этот декабрьский день Пол Хелм прореживал цветочные дебри, которые оправдывали членство Бонни Клаттер в Клубе садоводов Гарден-Сити. Грустная это была работа, потому что напоминала ему о другом дне, когда он ею занимался. В тот день ему помогал Кеньон, и это был последний раз, когда он видел живым и Кеньона, и Нэнси, и их родителей; Недели, прошедшие с того дня, были тяжелыми для мистера Хелма. Он был «нездоров» (более нездоров, чем думал; ему оставалось жить меньше четырех месяцев), и ему приходилось беспокоиться о многих вещах. В первую очередь о работе. Он сомневался, что долго продержится на этом месте. Никто вроде бы точно не знал, но мистер Хелм понял так, что «девочки», Беверли и Эвиана, собираются продать усадьбу — хотя, как сказал один парнишка в кафе, «никто не станет ее покупать, пока не будет раскрыта эта тайна». Неприятно было думать о том, что здесь поселятся чужаки, что они соберут урожай с «нашей» земли. Мистер Хелм переживал — и переживал он в память о Гербе. Этой ферме, говорил мистер Хелм, «нужны настоящие хозяева». Однажды Герб сказал ему: «Я надеюсь, что здесь всегда будут жить Клаттеры и Хелмы». Это было всего год назад. Боже, куда податься, если ферму продадут? Он чувствовал, что «слишком стар, чтобы привыкать к новому месту».
Однако он должен был работать и хотел работать. Как он сам говорил, он не из тех, кто скинут башмаки и сидят у печки, греются. И все же надо признать, что сейчас ему было не по себе: дом заколочен, лошадь Нэнси одиноко ждет в поле, под яблонями гниют упавшие яблоки, и не слышно привычных звуков — голоса Кеньона, зовущего Нэнси к телефону, посвистывания Герба, его приветливого «Доброе утро, Пол». Они с Гербом отлично ладили — даже не спорили никогда. Почему же тогда шериф и его помощники без конца его допрашивают? Не иначе, думают, будто ему «есть что скрывать»? Наверное, не стоило рассказывать им про мексиканцев. Мистер Хелм сообщил Элу Дьюи, что приблизительно в четыре часа дня в субботу, 14 ноября, в день, когда произошло убийство, на ферму «Речная Долина» приходили двое мексиканцев: один усатый, другой рябой. Мистер Хелм видел, как они постучались в дверь кабинета, видел, как Герб вышел с ними поговорить, и минут десять спустя заметил, как чужаки уходили с «мрачным видом». Мистер Хелм полагал, что они спрашивали, не найдется ли для них работы, и получили отрицательный ответ. К сожалению, хотя его неоднократно вызывали для дачи показаний о событиях того дня, об этом эпизоде он впервые рассказал лишь спустя две недели после преступления, потому что, как он объяснил Дьюи, «совершенно неожиданно об этом вспомнил». Но Дьюи и некоторые другие следователи, казалось, не поверили в эту историю и вели себя так, словно все это он придумал для того, чтобы ввести их в заблуждение. Они предпочитали верить Бобу Джонсону, страховому агенту, который провел в субботу весь день в кабинете мистера Клаттера и был «абсолютно уверен», что с двух до десяти минут седьмого он был единственным посетителем Герба. Мистер Хелм стоял на своем не менее твердо: мексиканцы, усы, оспины, четыре часа. Герб сказал бы им, что он говорит правду, уверил бы их в том, что он, Пол Хелм, человек, который «честно молится и честно зарабатывает на хлеб». Но Герба больше нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу