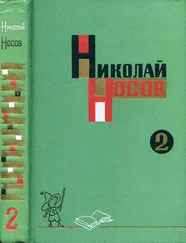Он сказал:
— Перестань хмуриться.
— Я не хмурюсь.
— К чему это? Опять силикон, новые счета от Орентрайха. Я предпочел бы видеть человеческие морщины. Неважно, чья это вина. Все мы, случается, бросаем друг друга под пустым небом и сами не понимаем почему.
Эхо, отголоски пустот: Хайме Санчес, Карлос и Анджелита; Хельга и Фредди Фео, Айвори и мистер Шмидт; доктор Бентсен и Джордж, Джордж и она, доктор Бентсен и Мэри Райнландер…
Он слегка сжал ее пальцы между своими, а другой рукой поднял ей подбородок, чтобы посмотреть в глаза. Потом поднес ее руку к губам и поцеловал ладонь.
— Сара, я тебя люблю.
— И я тебя.
Но прикосновение его губ, скрытая угроза заставили ее напрячься. Внизу на лестнице послышалось звяканье столовых приборов на подносе: Анна и Маргарет несли ужин.
— И я тебя люблю, — повторила она притворно сонным голосом и с притворной же вялостью отошла, чтобы задернуть шторы. Тяжелый шелк закрыл ночную реку, освещенные суда, белесые и немые за снежной пеленой, как на японской гравюре с зимним ночным пейзажем.
— Джордж? — Настойчивая просьба, пока не вошли ирландки с вечерними приношениями. — Пожалуйста. Не волнуйся, милый. Мы кого-нибудь подыщем.
(эссе, перевод В. Голышева)
Некогда на деревенском Юге были фермы и фермерши, которые накрывали стол почти для любого прохожего: разъездного проповедника, точильщика, сезонного рабочего — любого угостят сытным обедом. Вероятно, есть еще много таких ферм и фермерш. Определенно есть моя тетя, миссис Дженнингс Картер. Мэри Ида Картер.
Ребенком я подолгу жил на ферме у Картеров; тогда она была маленькой, а теперь это изрядное владение. Дом освещался керосиновыми лампами, воду качали из колодца и носили ведрами, отапливались камином и плитами, а развлекались только тем, что выдумывали сами. По вечерам, после ужина, дядя Дженнингс, видный, энергичный мужчина, частенько садился за пианино вместе со своей хорошенькой женой, младшей сестрой моей матери.
Картеры были работящие люди. Дженнингс с несколь-ими издольщиками обрабатывал землю при помощи конного плуга. Что до его жены, то у нее дел было выше головы. Я ей помогал: кормил свиней, доил коров, сбивал масло, сдирал листья с початков, лущил горох и колол орехи. Одной работы я избегал как мог, а когда приходилось ее делать, закрывал глаза: я терпеть не мог сворачивать шеи курам, хотя поесть их был совсем не против. Было это во время Депрессии, но для главной трапезы дня у Мэри Иды всего хватало; обед подавали в полдень; потного мужа с работниками призывали к столу колокольным звоном. Я любил бить в колокол — чувствовал себя при этом могущественным благодетелем.
К этим полуденным трапезам на стол выкладывали горячее печенье, кукурузный хлеб, мед в сотах, курятину, сома или жареную белку, белую фасоль и вигну. Тут-то иногда и являлись гости — иногда жданные, иногда нежданные. «Ну, — говорила Мэри Ида, завидев на дороге продавца Библий со стертыми ногами, — еще одна Библия нам не нужна. Но еще одну тарелку придется поставить».
Из всех, кого мы кормили, трое навсегда остались в моей памяти. Во-первых, пресвитерианский миссионер, собиравший деньги для своей христианской работы на землях нечестивых. Мэри Ида сказала, что денег дать не может, но будет рада, если он с нами пообедает. Бедняга в этом явно нуждался. В своем пыльном, лоснящемся, порыжелом черном костюме, скрипучих черных похоронных туфлях и черной с прозеленью шляпе, он был тощий, как стебель сахарного тростника. В длинной, красной, морщинистой шее ходил большой, как зоб, кадык. Я в жизни не видел более прожорливого человека. Он в три глотка выпил литр пахты, в одиночку (правда, двумя руками) расправился с целым блюдом курятины, а печений, истекающих маслом и патокой, забросил в себя столько, что я сбился со счета. При этом, уплетая еду, он успевал потчевать нас рассказами, от которых волосы вставали дыбом, — о своих подвигах на безбожных территориях.
— Я вам скажу. Я видел, как людоеды жарят на вертеле черных людей и белых — как вы свинью — и съедают всё до последнего кусочка: пальцы ног, мозги, уши — всё. Один людоед сказал мне, что вкуснее всего жареный новорожденный младенец; на вкус, говорит, как ягненок. А меня не съели, думаю, потому, что на мне мяса мало, костлявый. Видел, как людей вешали за пятки и у них кровь из ушей текла. А раз меня укусила зеленая мамба, самая ядовитая змея на земле. Меня долгонько тошнило, но не умер; черные решили, что я бог, и поднесли мне пальто из леопардовых шкур.
Читать дальше