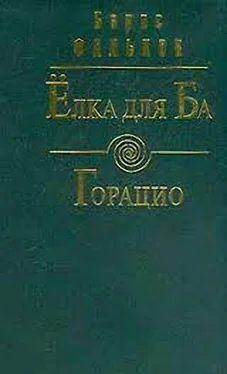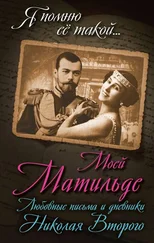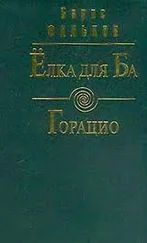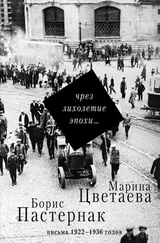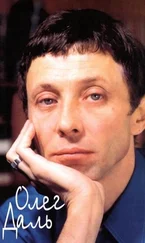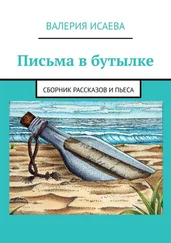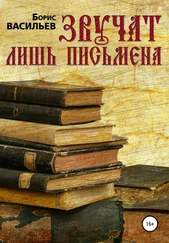И, значит, никогда в этом Корнуолле не таяли так резво снега в рыжую траву, похожую на лосиную шкуру. Не зеленели так славно и в таком соблазнительном отдалении мягкие холмы, не вспыхивали так мерцательно остатки льда на их склонах — зелёных, чёрных, рыжих. Никогда, стало быть, не пахло так вот раньше: влажной близкой глиной и далёким морем, чуть нагретой сухой травкой и пивом, и ржавчиной, и всем остальным, и в таком томительном сочетании, и в таких полезных носоглотке пропорциях. Таких болезненных для сердца тела и сердца души пропорциях.
И вот, подобно спазму гортани, оно, сердце души трудно впитывает этот настой, такой горький и сложный, и одновременно простой. Вот ему, сердцу души, становится счастливо и нежно, и чуть странно, и немного стыдно. Потому что сердце ума вступает в спор и внушает: ты ведь куда старше и мудрее, и вечнее всего этого, снисходительней! А это всё лишь обман, игра разноцветных и разноотражающих стёкол глаз. Сердце ума внушает: в твоих силах придумать игру иную, непохожую, переиграть эту или отменить всякую игру навсегда, достаточно тебе лишь пожелать этого, о, ты, сердце души. И такое дело сделается тобою без усилий, по желанию лишь только сердечному.
Но внушая, само сердце ума прекрасно знает — и о том прекрасно известно сердцу души — что это не так. Что это совсем не так, потому что так быть не может. Вот от такой лжи сердца ума и стыдно сердцу души. И больно, и многое ещё. И нет, и да. Вот. Но нет, но да! Будто не сердце ума, а само оно, сердце души так солгало, такое простучало, пробило, такое вот ляпнуло. Стыдно, и больно, но не слишком — а просто и легко, будто ляпнуло оно это не сейчас, не сегодня, а вчера или позавчера, неважно… важно, что задолго до рождения этой самой вот весны, столь достойной всяческой снисходительности, потому что столь очевидно хрупкой — и такой непременно обязательной. Неудачно ляпнуло, пусть и не по своей вине, а по вине плохопослушной гортани, или языка, но такое — чего уже не поправить: или никогда, или что может быть поправлено только этой самой весной корнуоллской, только ею самой. Если хотя бы это может быть. Даже хотя бы этого быть не может.
Но сказано! И умишко сердца прекрасно это знает — невзирая на свою собственную потребность внушать, и внушать иное, — как убога и смешна жизнь любого сердца в сравнении даже с этой призрачной весной их жалкого Корнуолла, такой, как она есть. Или отражается разноцветно в стёклах глаз. И с весной, как бы она ни была хрупка, и всякими другими отражениями, к счастью — не погубленными никакими ляпами сердчишек, этими слишком мудрыми ляпами. Живыми отражениями, в которых единственно стоющее — она сама, весна, такая глупая и непоправимая, в своей единственности и единении всех отражений: льда, металла, грязи, женственных изумрудных холмов, красной ржавчины, лошадиного глаза, глиняной стены обжорки, пивной пены, озера, а на том его берегу — неуклюжих башен из серого пористого камня и моста через затоку, отражающихся уже не только в глазах смотрящего, а и в фиолетовой поверхности воды — среди оранжевых оспин воды. А там и серая галька на дне озера, опускающаяся в глубины так же быстро, как быстро стаяли этой весной снега в рыжих полях их Корнуолла.
И глядящий на всё это изумлённо, подпирающий челюсть палкой пастух.
Ворона села на седло одной из привязанных к дереву лошадей: гнедой. Продолжало темнеть.
— Я хочу поговорить о бессмертии, господин мой, — сказал хорошенький молодой проезжий томно.
Спутник его понимающе кивнул.
— О чьём же?
— О своём, Гор, о своём.
— Охотно, ибо нет ничего проще этого, принц мой Амлед. И для многих, без сомнения, нет ничего увлекательней. Но я, признаться, не усматриваю в нём никакой необходимости.
* * *
ДЖ. Т. РЕВЕРС, АВТОР «ГАМЛЕТА».
Находятся люди, утверждающие, что идущий за своим плугом землепашец издаёт радостные звуки ликования, благословляя свой производительный труд. По Энгельсу, например, из этих звуков и родилась музыка, мать всех искусств. Есть, однако, подозрение, что учёный сам за плугом не ходил. И потому не мог знать, насколько это занятие радостно. Глядя же на него со стороны, тугой на ухо, как это свойственно всем его коллегам, учёный принял за песню звуки иного происхождения. Да вовсе и не горлом издаваемые, а другим органом: противоположным горлу.
Между тем, ему достаточно было глянуть на медведя, извлекающего из расщеплённого пня сложную музыку, чтобы отказаться от своего заблуждения. Но учёным гуманоидам, конечно, не до медведей.
Читать дальше