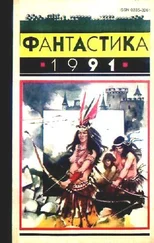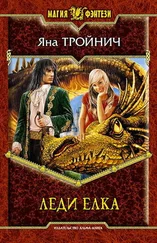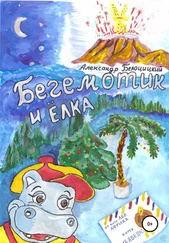Такая система воспитания давала не только запланированные, но и непредвиденные результаты. Именно она принудила меня выработать приёмы, целое искусство одновременного проживания в трёх непересекающихся мирах. Дворовое шакальё с завистью наблюдало за тем, как я играл во взрослой волейбольной команде, когда в ней не хватало игрока, и как общались со мной эти парни: на равных. Несмотря на мой возраст и соответствующий рост, я ведь совсем неплохо, и главное — стабильно, подавал, и мог довольно точно набросить мяч на сетку. К тому же я был племянником учителя, и дворовые никогда этого не забывали. Многие из них уже ходили в ту школу, где Ю начал работать, а остальным предстояло туда пойти в ближайшее время. Изабелла тоже приложила руку к этому своеобразному воспитанию, изрядно укрепив тройственность моего образа жизни. По её поручению я действительно бегал встречать одесский поезд, проводниками которого доставлялись — не Изабелле лично, а лаборатории, в которой она подрабатывала — круглые металлические коробки, похожие на те, в которых хранят киноплёнку. Я полагал, что в этих отливающих синим холодом, каждый раз напоминающим о глазах Ба, барабанчиках ползают или спят микробы с бактериями, эдакий микрозоопарк. Так я полагал, пока не выяснилось — что же на самом деле содержалось в тех коробках.
Что до моего личного вклада в систему, то все мои усилия были направлены на сокрытие истинного положения вещей. Никто из домашних не должен был заподозрить существование мостиков, связывающих дом с другими мирами, сквозных дыр в окружающих крепость стенах. Никто и не знал, что я, собственно, был таким мостиком и дырой, а следовательно — возможным предателем гарнизона. Лишь возможным, на деле я не собирался им становиться, хотя — кто знает, если б кому-нибудь стало известно, чем именно меня можно купить, то как бы оно всё повернулось? Ладно, дело давнее, теперь можно открыть секрет: меня нельзя было купить сладостями, я и сам, вынося их из дома, покупал ими послушание слетавшихся на них, как мухи, дворовых. На конфеты и сахар я плевал, про деньги говорить не стоит и сейчас: мне по-прежнему не понять их очарования. Зато за зелёный и одновременно полугнилой, солёно-мочёный помидор из вонючей бочки, я продал бы и дом, и домашних. Ценность этого помидора была обусловлена строжайшим запретом, касавшимся всех домашних, употреблять его не только дома — но и вне его. Следовательно, за такой помидор я продал бы, может, не только их, а и всю родину. Заткнитесь все, кому ещё какое дело до этого! Я имею в виду родной мой, только мне одному дорогой, смешной наш городок.
И повторяю, предателем я, возможно, и стал, но вовсе не собирался этого делать. Внутри крепости, мне так казалось, издавна застыл покой, подобный вечному выражению лиц Ба и Ди, и я вовсе не хотел его нарушать. Мне и самому нравилось, что Ба с Ди — нечто вроде их собственных портретов, раз и навсегда занявших место в интерьере дома. Их лишь перевешивали с места на место, от чего нисколько не менялась общая композиция, к примеру — весной, когда в доме открывали окны, и у одного из них обязательно садилась Ба: левым плечом к нему, правым к нам, глаза неотрывны от нот на пюпитре «Беккера», будто кроме этих нот ничего на свете и не существует. Между тем, за окном на тротуаре всегда собиралась публика, почтительно слушавшая, точнее, взиравшая на то, как красиво вписанная в рамку окна — разве не портрет? — Ба ловко переворачивает страницы. Она непременно играла переложения всяких Lieder, а публика хлопала поразительно вовремя, выдержав паузу после окончания очередного Stuck.
Почему-то именно весной из кабинета Ди особенно внятно несло медикаментами, и запах сирени, проникавший из палисадника, безуспешно боролся с прозой жизни. По весне Ди вёл нескончаемый приём своих больных, большей частью — грудных младенцев. Они страшно орали, когда их вносили в кабинет, а потом вдруг сразу затихали. Мне даже казалось, что они сразу и издыхали там, в комнате, превращавшейся к ночи в спальню Изабеллы и Ю, стало быть, и в мою. Но в конце концов и я узнал, что почтительное молчание младенцев возникает по воле Ди, наложившему на их животики и головки руки, подобно библейскому целителю. Он стоял, запрокинув голову и размышляя, не обязательно о клиенте, но ноздри его крупного носа раcширялись, поскольку Ди предпочитал ставить диагноз по запаху.
Большой двор, окружавший наш якобы неприступный замок, был битком набит оружием. Его вполне хватило бы, чтобы взять любое укрепление, если б, скажем, моя шайка взбунтовалась и затеяла бы штурм замка. К счастью, с патронами было туго, и почти целый Schmei?er ценился дешевле, чем прилагающийся к нему неполный рожок. Всё ещё, через семь лет после окончания войны, на переплавку шли огромные партии совсем не устаревших железок, и на заводском дворе — прямо за трамвайным кольцом — валялись сотни тонн вполне работоспособной убийственной техники под присмотром одного лишь хромого сторожа, вооружённого старой двустволкой, заряженной, по слухам, всего лишь солью. Так что сигавший через забор рисковал заработать лишь малосольные ягодицы, и в результате наш Большой двор превратился в арсенал. Уверен, что и сегодня, в тайниках душ бывших дворовых шакалят, и в секретных ящиках их столов, если таковые имеются в наличии, или упакованные в непроницаемую плёнку — в сливных бачках покоятся многие из тех железок, пронесенных сквозь все эти годы. Спрашивать, так это или нет, бесполезно: никто из хозяев, разумеется, моей уверенности не подтвердит. Они все люди нормальные, уродов среди них на найдётся. Ну, а дураков, как известно, и вовсе нет.
Читать дальше
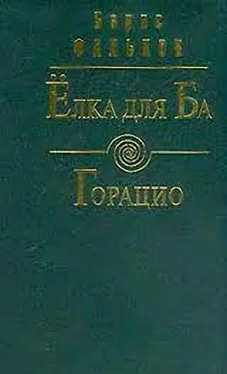
![Антонина Клименкова - Ёлка Для Вампиров [СИ]](/books/35141/antonina-klimenkova-elka-dlya-vampirov-si-thumb.webp)