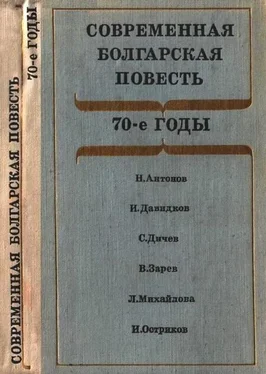Переплетчик прошел вперед, остановился у двери, выкрашенной в коричневый цвет с бежевыми разводами, имитирующими древесину, и принялся шарить сначала по карманам пиджака, а потом и жилета — искал ключи. Но дверь оказалась незапертой, и мы стали подниматься по лестнице. Он останавливался на каждой площадке, пока мы не добрались до третьего этажа.
Моя комната оказалась совсем маленькой. Мы втащили кровать — старую скрипучую развалюху с высокими синими спинками, в которой мне предстояло утонуть, подобно рельсам на дне глубокого рва, — стол и стул. Ни на что другое места не хватило. Я засунул чемодан под кровать, повесил пиджак на спинку стула — вешалки в комнате не было — и распахнул окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Меня обдало запахом влажной листвы — молодой тополь касался верхушкой моего окна. Сквозь почти голые ветки я увидел крышу соседнего дома — низенького, вросшего в землю. Краска на стенах облупилась от зимних морозов. За этим домиком тянулся целый ряд точно таких же. В них ютилась беднота. Это видно было по сохнущему на веревках, залатанному серому белью (его уже никаким мылом нельзя было отстирать), по драной обуви, которая стояла у порогов. Дальше, за домами, виднелись луга, побуревшие от осенних дождей; они еще зеленели в болотистых местах, и эта веселая зелень резко выделялась среди глухих меланхолических красок осени. На лугах, так же как у нас по берегам Огосты, темнели островерхие, утрамбованные дождем копны сена, а на горизонте, за копнами, повторяя их очертания, поднимались горы, у подножия желто-золотистые от листопада, а у вершин окутанные туманом. Сквозь туман проглядывала пестрота осенних красок. Краски эти норой становились яркими, порой совсем угасали: ветер то разгонял туман, и воздух становился прозрачным, то собирал его в густые клубы.
— В соседней комнате живет художник. Чудаковатый малость, но вполне приличный человек. Все эвакуируются, а он сидит в городе. Весь дом провонял его красками, — сказал переплетчик, и ноздри его мясистого красного носа расширились. Он попытался уловить неприятный запах, но лицо его осталось безразличным, и я понял, что насморк мешает ему почувствовать терпкий дух скипидара и сохнущих полотен. — Я пустил его только на год, но он вселился, и баста. А ведь я мог бы взять к себе двух, а то и трех таких, как ты, из провинции, — комната просторная, хоть на лошади езди, большие деньги нынче платят за такие комнаты; глядишь, квартиранты получали б посылки из деревни и на столе всегда были бы сливовица и бастурма — в провинции еще всего вдосталь. Я ему говорю: «И чего ты копишь эти картины? Поехал бы и продал. Тут у нас вряд ли кто-нибудь соблазнится красными деревьями и желтыми женщинами, да еще с зонтиками… А вот в провинции народ поглупее, кто знает, может, и купят!» А он смеется: «Ты об этом, дядюшка Борис, не беспокойся! Лучше подумай о крыше над головой. Потому что придет время, явится комиссия и скажет: „Просим в месячный срок освободить помещение, здесь будет открыт музей такого-то художника“. (Его, значит!) Вобьют в стены гвозди — не морщись, говорят, так оно и будет! — и повесят мои картины, а на самом видном месте — это полотно, с зонтиками… Рядом с раковиной — твоя жена всегда сердится, когда видит в ней следы краски, — прикрепят надпись: „Здесь художник мыл свои кисти!“ Может, тебя еще директором оставят, ты ведь у нас человек со связями, устроишься на такое тепленькое местечко. Будешь делиться с посетителями своими воспоминаниями обо мне и без труда зарабатывать на хлеб. Только очень тебя прошу, не выдумывай разные там истории про женщин и попойки! Обо всем рассказывай так, как было…» Смотрит он мне в глаза и смеется. Надо мной ли шутит? Над собой ли? Слушаю и никак не могу понять…
Сообщение о том, что я буду жить рядом с таким человеком, меня смутило. Еще в гимназии я знал одного художника. Он обычно рисовал скалы и сосны над горными потоками. Стены коридоров и классов нашей гимназии были увешаны этими горными пейзажами, которые отличались друг от друга только тем, что одни были в синих тонах, а в других преобладали фиолетовые. Этот художник преподавал нам рисование. Он был самоуверенным человеком и считал, что мы никогда не овладеем рисунком, если не запомним с абсолютной точностью его сентенции об искусстве, которые он, расхаживая по классу, диктовал нам медленно и внятно, а мы сосредоточенно записывали (класс наполнялся энергичным скрипом перьев), стараясь не пропустить ни единого слова. Потом он нас экзаменовал, высмеивал и ставил всем двойки, потому что никто не мог с точностью запомнить и повторить его мудрые мысли. Нас просто в дрожь кидало, когда мы вспоминали, что завтра у нас урок по рисованию.
Читать дальше