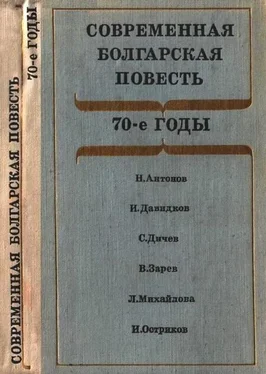Монастырский праздник походил на шумную ярмарку. Приезжали на телегах крестьяне из таких далеких деревень, как Прогорелец и Цибыр. Мужики, одетые во все новое, распрягали волов — животы и бока животных были густо припудрены пылью дальней дороги — и клали на ярмо охапку сена или связку кукурузных стеблей. Длинные рога поблескивали под лучами заходящего солнца, а желтые тупые зубы медленно сминали шуршащие кукурузные стебли.
То и дело слышались голоса матерей: они окликали ребятишек, которые, увлеченные пестрой толпой и криками продавцов, устремлялись туда, где над головами людей покачивались связки воздушных шаров (сквозь них видны были горы, желтые и розовые) и паяцы (их продавали дальше, возле самых монастырских ворот) подпрыгивали на веревочках, привязанных к двум сосновым дощечкам; у паяцев были длинные хвосты и хитрые глаза, нарисованные сильно наслюненным химическим карандашом.
Как только тень монастырской ограды удлинялась и волы начинали подрагивать боками, пытаясь прогнать вечерний холод, гости устраивались на ночлег. Поверх соломы, покрывавшей дно телег, — солома торчала у боковин, а в середине была примята теми, кто ехал сюда от самого берега Дуная, — бабы расстилали пестрые домотканые половики, и их фиолетово-красное сияние, размер тайное ловкими женскими руками, оживляло монастырские поляны; сияние пыталось задержать наступление вечера и делало более мягким пронизанный пурпуром сумрак; но длилось это недолго, сумерки сгущались, стекая с каменистых уступов гор, церковных куполов и вершины старого кипариса (он почернел, словно из него выжали последние капли зелени), пропитывали мраком яркие полосы половиков, гасили их, и теперь на телегах светились лишь белобрысые детские головенки, маленькие шалуны все еще не могли угомониться и щекотали друг дружку босыми холодными пятками — одеяла над ними подпрыгивали и сбивались, — но потом, успокоившись, они переворачивались на спину и глядели в прояснившееся небо, где, словно упав с проплывавшего мимо облака, светилась первая звездочка.
Тогда Савестия со своим спутником — его борода, тоже пропитанная сумраком и растрепанная ветром, приятно щекотала ее лицо — отправлялись на монастырский двор искать себе приюта.
Однажды, когда я был еще маленьким, мама привезла меня в Лопушню на праздник, чтобы приписать к Лопушанскому монастырю.
Я часто болел. По ночам надсадно кашлял, вертелся в постели, и взмокшая от пота рубашка задиралась к самому подбородку. Соседка сказала маме, что я непременно выздоровлю, если меня припишут к Лопушанскому монастырю. Это будет стоить не так уж дорого: надо дать несколько левов игумену, когда он меня благословит, а потом, если бог даст здоровья, я вырасту и женюсь, — в день святого Ивана, моего заступника, подарить монастырю одного барана. Если же от благословения я не поправлюсь, добавила соседка, тогда уж придется летом греться на солнце, обвязав голую грудь шерстяной черной шалью.
Мама решила сначала попробовать с солнцем.
Отправляясь на виноградник, она брала меня с собой. Сняв мою рубашонку, она вешала ее на кол, увитый кудрявыми усиками лоз, светло-зелеными наверху, — они выросли уже после того, как мой дед два дня назад опрыскал виноградник, — расстилала свою безрукавку на земле, и я ложился, сначала чувствуя под собой твердые комки глины, а потом мягкое, разливающееся по телу тепло солнца, греющего сквозь кудрявую листву виноградных лоз; листья загорались в его лучах, и мне казалось, что они, того и гляди, почернеют и свернутся.
Так я пролежал много дней. Мамина мотыга сначала позвякивала в крайнем ряду, потом мелькала рядом — при каждом ударе в стороны отлетали мелкие, облепленные глиной камешки, — и, наконец, звук ее затихал где-то на другом конце виноградника. Когда созрела росшая на меже черешня (на стволе ее засохли следы грязи: видно, в прошлом году кто-то лазил на нее во время дождя), сквозь ее листву на меня стали падать оброненные дроздами косточки. Черная шерстяная шаль, которой была замотана моя грудь, порыжела на солнце, стала рваться, а кашель не проходил.
Тогда мама решила отвезти, меня в Лопушанский монастырь: может, исцеление придет оттуда.
* * *
Я упомянул обо всем этом потому, что в монастыре я впервые увидел Савестию с послушником. Как-то вечером я лежал в телеге неподалеку от монастырской ограды; в темном небе, исчерченном полетом летучих мышей, качался, задевая верхушки старых деревьев, колокольный звон, зовущий к вечерне. Они прошли мимо нашей телеги — под ручку, весело разговаривая. Одна из буйволиц резко повернула морду в их сторону, недоуздок натянулся, ярмо заскребло по траве, и острый рог чуть не задел Савестию. Савестия была маленького роста, в белой косынке, отделанной по краю бисерной бахромой, — бисеринки покачивались, обрамляя ее лицо, густо усыпанное веснушками. Особенно много веснушек скопилось вокруг носа и глаз, и они были того же цвета, что и зрачки.
Читать дальше