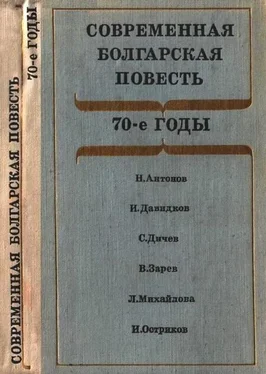— А ну, мыть руки и садиться, грешно, чтобы хлеб ждал!
Дедовы картофелины б у хали в печке, рассыпая свой перламутр, и прогоняли мои видения. Запах нафталина и беззаботного детства, которым веяло из старого платяного шкафа, исчезал, и я начинал думать о лете, о том, что оно скоро кончится и в наш дом снова придет забота — об учебниках, тетрадках, обуви и городском жилье, — придет, как туман с берегов Огосты, сквозь который видны лишь кривые стволы тутовника, растущего вдоль ограды.
Этим летом начали мерить леса по ту сторону Огосты. Как-то утром я повстречал лесника. Он был босиком, в накинутой на плечи вязаной фуфайке и форменной фуражке, сдвинутой к левому уху, но так, что ее кокарда приходилась точно посередине лба, там, где продолжается «мысленная линия носа», как доваривал мой дед, повторяя любимое выражение своего взводного, унтер-офицера Будинского пехотного полка.
Фуражка для лесника была символом данной ему власти; он мог ходить в старой одежонке, чтобы не трепать форму по кустам и оврагам, но никогда не появлялся на люди без фуражки. Шутники рассказывали, что как-то видели его купающимся в Огосте: одежда брошена на камень возле заводи, ремень, скрученный, лежит сверху (пряжка его напоминает голову полоза), а фуражка красуется на башке голого мужика! И кокарда — точно посередине лба! Окунается лесник, но только до плеч, осторожно загребает воду пригоршнями, трет мясистые руки и не смеет плеснуть сильнее, чтобы ненароком не замочить свой пресловутый головной убор…
И в то утро, когда лесник остановил меня на дороге, козырек его фуражки был натерт клещевинным семенем и кокарда надраена до блеска. Этот парадный глянец делал его смешным. В брюках, потерявших всякую форму, в старой драной фуфайке, босой — у него были большие ступни с потрескавшимися пятками, между пальцами засохла глина, — он был не достоин носить эту венчавшую его голову корону из грубого зеленого сукна.
Достоин или не достоин, но он носил ее с той дисциплинированностью, которая присуща людям нераздумывающим, а вместе с короной спокойно и беззлобно принял титул Лесного Царя, хотя и чувствовал за ним скрытую издевку. Под этим прозвищем его знала вся округа.
Наш разговор был коротким. Лесной Царь предложил мне помочь ему мерить лес. Он сказал, что договорился еще с одним пареньком, они будут орудовать рулеткой, а я вбивать и нумеровать колышки и делать насечки на деревьях, предназначенных для порубки. Вот и все.
— Работка — не бей лежачего! — сказал Лесной Царь и натянул сползшую с плеча фуфайку. — Знай постукивай топориком. Здесь тебе кукушечка прокукует, там, на меже, черешенкой побалуешься… Идешь себе не спеша тенечком, а денежки каплют!
Я сразу же согласился. И не из-за кукушки и лесной прохлады — просто надо было где-то подработать, осень-то была не за горами.
Дома я взял в руки топор — это был колун, которым обычно кололи большие плахи, но он показался мне слишком тяжелым. Тогда я разыскал в подвале небольшой легкий топорик. Посреди лопасти шла черпая полоса, видно, в этом месте приварили новое лезо. Попробовал пальцем — обожгло, топорик был острый, как бритва. Я укоротил рукоятку пилой, прошелся острым стеклышком, снимавшим тонкую белую стружку, и стал ждать утра, когда фуражка Лесного Царя поведет меня за собой в благоухающие росными зорями леса на том берегу Огосты.
* * *
Солнце только что поднялось над холмом, а я, глядя на свою длинную тень, протянувшуюся с одного конца поляны до другого, уже спускался к берегу реки. Тут я увидел Лесного Царя и его помощника, ступивших в реку. Их отражения расплывались, а они хватали пригоршнями воду — темную в том месте, куда падала их тень, и золотую, где отражалась заря, — плескали ее себе на щеки и смеялись.
Заметив меня, Лесной Царь вытер ладонью лицо, проснувшееся и освеженное, и подтолкнул паренька: «Пойдем-ка!» Они перешли реку вброд, оступаясь и теряя равновесие, потому что камни на дне были скользкими, а я решил перебраться посуху — по большим валунам, тянувшимся от одного берега до другого через весь брод. Вода вокруг них пенилась, круто курчавилась, а миновав камни, снова становилась спокойной и прозрачной. Валуны качались, песок под ними скрипел, и я видел, как потревоженные усачи сигают через мою тень — блеснут и растворятся в розовом свете утра.
От реки до леса было рукой подать.
Мы поднимались по тропе, которая вилась среди пористых известняков, пронизанных длинными стеблями папоротника, его светло-зеленые верхушки были закручены наподобие улиток. Впереди шел Лесной Царь, при каждом шаге задники его грубых резиновых сандалий плотно припадали к земле, словно прилипали, и потом звонко шлепали по толстым пяткам. За ним, сдерживая шаг, чтобы не наступить на эти задники, следовал паренек. Я шел последним и мог наблюдать за моими спутниками. Житье-бытье зеленой суконной фуражки с кокардой, приходящейся точно посередине лба, не очень-то меня интересовало. Куда больше привлекал меня идущий впереди паренек — маленький росточком, в зеленой, залатанной на спине рубашке. Заплата была пришита толстыми черными нитками, и новый лоскут темнел на выгоревшей рубашке, которая топорщилась на худых плечах.
Читать дальше