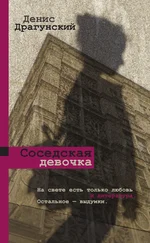Но я не успел об этом как следует подумать, потому что вдруг вспомнил: мой отец родился 1 декабря 1913 года. А умер 6 мая 1972 года.
То есть он прожил 58 лет, 5 месяцев и 5 дней.
А я родился 15 декабря 1950 года. То есть на тот день прожил ровно столько же. 58.5.5.
Почему я вдруг об этом подумал и начал эти странные подсчеты? Не знаю. Наверное, сработали какие-то внутренние часы.
Я понял: «Вот он, рубеж. Начиная с 17 часов сего дня – 20 мая 2009 года – я буду жить дольше, чем мой отец. Я его переживу не в смысле календаря, а в смысле срока».
До пяти вечера я сидел за столом, вцепившись в подлокотники соломенного кресла, следил за минутной стрелкой и думал.
Теперь мне это смешно, конечно.
Думал я вот о чем. Мой отец умер, когда мне был двадцать один год с половиной. А в тот день, то есть 20 мая 2009 года, мне было пятьдесят восемь. Тоже с половиной. То есть я прожил две жизни. Одну, с отцом, недлинную, но не безнадежно короткую. Поэту Дмитрию Веневитинову и математику Эваристу Галуа – вполне хватило. А другая жизнь – без отца – тридцать семь. Загадочный срок. В этом возрасте умерли Пушкин и Рафаэль. Ван Гог и Моцарт. И еще много кто. Конечно, все это случайные совпадения. Но я все равно чувствую особость этого срока. Тридцать семь лет – полная, сильная, результативная жизнь. Так сказать, минимальная протяженность долгой жизни.
Я сидел за письменным столом и вспоминал, как папа умер.
Это был очень длинный день, шестое мая семьдесят второго года. Cуббота.
Я помню его во всех подробностях. Как утром я встал, позавтракал. Яичница с белым хлебом и черный-черный сладкий чай. Как разговаривал с папой. Как потом я собирался на дачу. Звонил друзьям, Андрею и Алику.
Но плохо помню, как мы с папой прощались. Наверное, никак. Пока, до завтра. Пока, пока. Хотя иногда мне кажется, что мы в этот день перед моим отъездом – поссорились.
Но это воспоминание возникает и исчезает во мне. Когда я чувствую вину перед ним – мне кажется, что да, мы ссорились, и что я даже помню, как это было: он сидел в спальне, в маленьком креслице, спиной к зеркалу: там было огромное зеркало-псише, двухметровой высоты, с широкой рамой и двумя колоннами красного дерева; его можно было наклонять между колоннами: собственно, в этом и состоит идея зеркала-псише, в отличие от неподвижного трюмо.
Папа и мама не были охотниками до антиквариата и прочей роскоши. Мы жили скромно. У мамы не было украшений, вообще никаких, даже обручального кольца. У папы тоже не было кольца.
Зато был дешевый латунный перстень. Эстрадный. Яркая позолота и большой черный как бы камень, из пластмассы. Эстрадный – чтоб из задних рядов было видно. Кстати, вы знаете, что такое «эстрадный пиджак»? Почему в те времена говорили: «пиджак хорош, но чуточку эстрадный»? Потому что у эстрадного пиджака немного коротковаты рукава – чтобы издалека – из задних рядов и с ярусов – виднелись белые накрахмаленные манжеты.
Так вот. Однажды в каком-то театральном клубе (то ли в ЦДРИ, то ли в ВТО) мой папа оказался рядом с Сергеем Образцовым, руководителем Центрального театра кукол. Они стояли в кружочке, шел какой-то общий разговор. Скорее всего, о проблемах хорошего вкуса. Образцов (он был на 12 лет старше) сказал:
– Как странно, что молодые люди носят всякие пошлые побрякушки! – И указал на папин перстень, вот этот, латунно-сияющий, на самом деле очень пошлый.
Папа пожал плечами и сказал:
– Одни носят побрякушки здесь, другие – тут.
И показал на медаль лауреата сталинской премии, которая была у Образцова на пиджаке.
Все, кто был вокруг, проглотили язык. Образцов хмыкнул и отвернулся. Но дело ничем плохим не кончилось. Никакого доноса, боже упаси, хотя всё это было в конце сороковых.
Ах, это эстрадное желание «сказануть»! Рассмешить, изумить, огорошить ударной репликой, а там хоть трава не расти. Однажды, когда «Денискины рассказы» стали очень популярны, папе позвонили из «Правды» с потрясающим предложением: напечатать рассказ.
– А какой у вас гонорар? – спросил папа.
Звонивший хмыкнул. Действительно, странно: человеку предлагают напечатать рассказ в «Правде», как Горькому или Шолохову, – а он задает такие идиотские вопросы.
– Наверное, рублей сто, – был ответ.
– Обычно мне платят двести, – сказал папа.
– В «Правде» печатаются не ради денег, – строго сказал сотрудник «Правды».
– Ну, тогда я пойду в «Мурзилку»! – засмеялся папа.
Иногда потом я думал: «Эх! Зачем эти эстрадные штучки? Напечатался бы ты в «Правде», стал бы секретарем или хотя бы членом правления Союза Писателей – насколько легче, удобней стало бы тебе – да и нам всем – жить на свете. Особенно когда ты заболел, когда понадобились редкостные заграничные лекарства, больницы и санатории». Паршивые мысли, конечно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





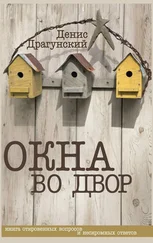
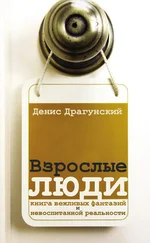
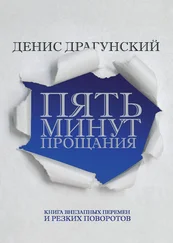
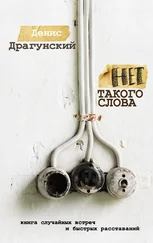
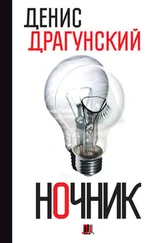
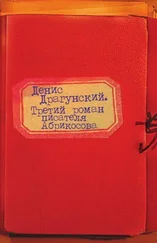
![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)