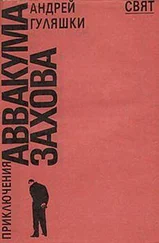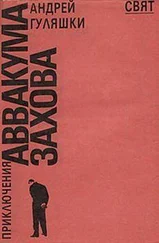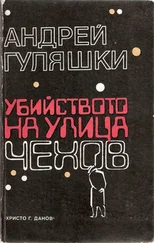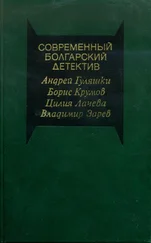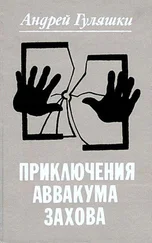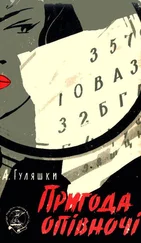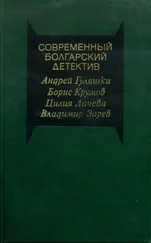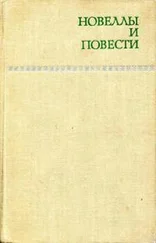Обходчик, в отличие от своего прямого начальника, услышав о происшествии, и ухом не повел, как-то даже вдруг повеселел, у него появилась охота шутить.
– Ну и ну! – заметил он. – Наш Стамо, небось, все камни посбивал, когда катился вниз. Башка-то у него, говорят, покрепче булыжника!
Начальник и обходчик вооружились фонарями, прихватили по доброй палке, чтоб можно было опираться, и пошли к обрыву. Привязав длинную веревку к кривой сливе, что росла неподалеку от места казни, они уцепились за веревку и вскоре исчезли во мраке окаянной прорвы. Минут через пятнадцать спасители выкарабкались из пропасти с трудом переводя дух. Начальник растерянно кусал посиневшие губы, а обходчик все так же весело доложил:
– Да в нем не меньше тонны весу! Пока перевернули лицом кверху, умаялись. Ох, и разукрасил же он себя, мать честная! На лбу дырища – суслик прошмыгнет.
Яким Давидов, как очевидец происшествия, написал две страницы показаний. Я ничего писать не стал. Через полтора часа к станции подошел скорый поезд, и мы с Якимом заняли пустое купе.
– Почему ты не сказал правду? – спросил я Якима, глядя на него с ненавистью.
– Почему? – переспросил он и снисходительно улыбнулся. – во-первых, потому, что правда в данном случае весьма относительна. Если бы этот человек стоял не на самом краю обрыва, а хоть на шаг дальше, он бы непременно выдержал твои удары, а потом бы сгреб тебя своими лапищами и тогда не он, а ты лежал бы на дне пропасти с раскроенным черепом. И еще одно, что, пожалуй, важнее. Сам подумай, есть ли здравый смысл в том, чтобы мир потерял будущего ученого ради какого-то типа, который невзначай поскользнулся, полетел в пропасть и убился?
У меня раскалывалась голова.
Поезд, набирая скорость, с грохотом мчался в ночи.
За пятнадцать дней, прошедших со дня смерти, отец был удостоен стольких почестей, сколько ему не было оказано за пятнадцать лет жизни. Делегация Союза художников специально ездила в Церовене, чтобы возложить венок на его могилу. Мать тоже поехала, я же наотрез отказался.
– Пошли они к чертям! – возмутился я. – Кое-кто из этих субчиков, что теперь будут держать пламенные речи над его могилой, не раз подкладывал ему, живому, свинью. Остальные тоже не лучше! Когда его постигла беда, никто из них и пальцем не шевельнул, чтобы ему помочь, они готовы были божиться, что знать его не знают… Чтобы я стоял перед его могилой рядом с такими мародерами? Нет, увольте!
– Все-таки неудобно, – робко уговаривала мать.
– Никаких „все-таки”! – крикнул я, выйдя из себя. – Того, что случилось, уже не вернуть!
Боюсь, что если бы я поехал, то сбросил бы в пропасть какого-нибудь другого мерзавца.
Потом отца удостоили звания народного художника, присвоили его имя одной из картинных галерей.
Пошли слухи, что через год на фасаде нашего дома установят мемориальную доску. Такие слухи пришлись кстати, потому что, по другим слухам, один молодой, но уже нашумевший художник имел виды на наш чердак, служивший отцу мастерской.
В тот вечер, когда мать уехала с делегацией в Церовене, я развязал шпагат, которым была стянута стопка отцовских тетрадей, достал первую и принялся читать. Меня охватило ужасное волнение. Прочитав вступительную главу, которая называлась „Та, которая грядет”, я сказал себе, что эта девочка здорово водила за нос моего родителя, хотя он ее и боготворил… Впрочем, у каждого времени – своя окраска!
Потом у меня возникло подозрение, что Снежана – личность гипотетическая. Плод богатого воображения и нервозности – насколько я понимал, у отца от трудной жизни и недоедания пошаливали нервы. Ведь он сам не раз упоминал о том, что его преследуют видения. Но однажды я не утерпел и решил заняться проверкой. Мы с Виолеттой, которая отлично знает французский язык, ходили во французское посольство, в министерство иностранных дел и наконец напали на след: в паспортном столе нам сказали, что в декабре 1934 года гражданин Франции Пьер Пуатье с: дочерью Снежаной Пуатье выехал в Париж по делам службы. Пьер Пуатье был штатным сотрудником французского культурного института в Болгарии. Он проживал в Софии, на улице Алый мак, номер четыре. Улица Алый мак. (бывашая Каблешкова) выходит на бульвар маршала Толбухина (в прошлом-бульвар Фердинанда). Все было так, как описывал отец.
След был не бог весть какой обнадеживающий, но он служил доказательством, что Снежана Пуатье – личность не выдуманная, а „всамделишняя”, она реально существовала и реально проживала неподалеку от дома, в котором жил в те годы отец, в устье бульвара патриарха Евфимия, напротив памятника патриарху и кабачка „Спасение”.
Читать дальше
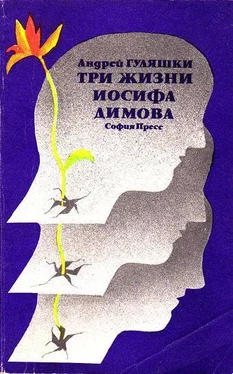
![Андрей Гуляшки - Случай в Момчилово [Контрразведка]](/books/1574/andrej-gulyashki-sluchaj-v-momchilovo-kontrrazvedka-thumb.webp)