Надо было отстоять длинную очередь, чтобы приблизиться к перегородке, через которую толстые розовые руки выдавали миски с едой.
Наметанным глазом Лавров различал в толпе бегунов, велогонщиков, баскетболистов, гимнастов, прыгунов, городошников, пятиборцев, лучниц, наездниц, фехтовальщиц, даже здесь не расстающихся с рапирами, тяжеловесов, боксеров, метателей… Каждый вид спорта развивает не только особую группу мышц, но и определенное направление мысли. В ходе тренировки, Лавров знал не понаслышке, меняется голос, взгляд, жестикуляция. Появляются новые желания, новые страхи. Характер переиначивает облик. Посмотрите на велогонщиков, на их длинные, тонкие носы, впалые щеки, оттопыренные уши, послушайте, о чем они говорят перед стартом, затягиваясь последней папиросой, проследите, куда идут после финиша! Или взгляните на лучниц, толстощеких, губастых, грудастых, коротконогих, длиннопалых, лупоглазых!..
Теребя поднос, Лавров загодя искал свободного места, куда он мог бы втиснуть свое тщедушное тело, надеясь, что и его какой-нибудь знаток припишет подходящему виду спорта, пусть даже рытью нор в прибрежном песке, ужению рыбы с висячего моста!..
Скопление здоровья, силы, молодости, ловкости, удачи действовало на Лаврова удручающе. Он-то знал, на себе проверил, как нелегко найти всему этому применение в спорте. Конечно, на первых порах телесная крепость скрадывает скуку и тоску, но чем ближе к финишу, тем больнее нехватка знаний, надо думать, думать и говорить, говорить, а слов уже нет, ничего уже не вспомнишь, ни стихов, ни историй, ничего уже не осталось на победный рывок, только пот да экскременты.
Расплатившись, Лавров убедился, что ему везет — освободился столик возле колонны. Огромный детина в черной майке, загорелый, с плечами синими от наколок, с золотой цепью, встал, опрокинув стул, горстью захватил из стаканчика салфетки, вытер брыла, да-да, именно брыла, швырнул комок в тарелку и, набычившись, двинулся к выходу.
«Городошник!» — подумал Лавров, сдвигая груду грязных мисок в дальний угол, и принялся хлебать, невольно читая надписи, густо нацарапанные на колонне.
Но не успел Лавров распробовать и дочитать («улыбок тебе казак» и прочее), как Птицын, которого он уже давно заметил у окна с какой-то высокой, пышной дамой, пройдя по кривой через весь зал, поднял опрокинутый стул, уселся и обдал его заготовленным воплем: «Кого я вижу, Генка, вот уж не думал не гадал, как гром и молния среди ясного неба, ливень, песчаные дорожки, запах настурций…»
Радушие давалось Птицыну с трудом, он завирался. Это был плотно сбитый, низкого роста господин лет сорока пяти, с темным квадратным лицом, прямой линией сросшихся бровей и длинными, зачесанными назад волосами, которые неприятно лоснились.
Лавров еще помнил то время, когда Птицын подвизался в судейской коллегии, на запятках, а позже, пойманный с поличным, перевелся тихой сапой в бригаду тренеров, но никого не тренировал, довольный ролью ловкого посредника. Его услугами охотно пользовались те, кому не везло. Всегда на подхвате, он постепенно приобрел скрытое, но вездесущее влияние. Ему подыгрывали. Перепортив не одну дюжину легкоатлеток, он, наконец, женился на метательнице молота. Произвел двух девочек. Развелся. Отрастил бороду, потом сбрил. Стал щедрым завсегдатаем массажисток, предпочитая немых. Умел не упустить выгоду. Знал все входы и выходы. Но не только брезгливость была причиной того, что Лавров, едва завидев Птицына, отворачивался. Пустое место представляет опасность, причем опасность особого рода — унылую, расслабляющую. Вопреки своей фамилии, Птицын извивался.
«Да ты совсем не изменился, Геннадий, ну-ка, дай я на тебя погляжу, физкультурник ты наш дорогой, неисправимый!..»
Разговор между антагонистами получился столь ничтожным, что, будучи записан, по памяти Птицына, в дневник, который он вел уже на протяжении пяти лет, начав со скупой заметки о безобразной гибели Ляли, пловчихи, потерял и ту толику смысла, что против воли собеседников закралась в их слова (и это при том, что оба вкладывали в одинаковые звуки противоположное значение).
«Ради приличия я осведомился о его здоровье. „У меня все болит!“ — сказал Л., сделав ударение на „все“. Я: „В наше время любая хворь излечима“. Он: „У меня свое безвременье, а ваши часы заведены лапой макаки!“ Спросил про Лилю, сестру его несчастной жены. Л.: „Благодарю за сострадание, выцветает помаленьку“. Тут я, несколько лукавя, высказал уверенность, что возвращение в большой спорт вновь прославит его имя. Он подцепил вилкой липкую прядь вермишели и сказал, что славой сыт не будешь. Я: „Что же насыщает?“ Он: „Позор, поражение“. Я предложил ему свои услуги, но он заявил, что будет сам, единолично, бороться за свое прошлое и не остановится ни перед чем (в голосе его прозвучала явная угроза). Он сильно изменился за прошедшие годы, одряхлел, покрылся морщинами, волосы повылезали, сухая кожа в красноватых пятнах, глаза мутные, бледные, руки трясутся. За показной бодростью чувствуется усталость, неуверенность, страх. Но помощи от меня он не примет, это очевидно. Я не обижаюсь. Слишком много между нами недосказано. Мы как будто вырываем друг у друга из рук мешок, в котором что-то барахтается, но не подает голоса… „Чем ты занимался все эти пять лет?“ — спросил я. „Грабил, убивал, насиловал“. Только сейчас, за полночь, выводя буквы, могу оценить замечательную инструментовку его ответа: грубо-трубное г-р-б, одушевленное резким ударным а и повизгивающим у-и, исчезает в волнистый камышовый шелест в-л-н-с протяжной истомой и-и-и, завершаясь свально-овальным выдохом о-a… Но там, в столовой, за грязным обеденным столом, посреди грязной обыденной болтовни, я только судорожно взмахнул рукой, закрываясь от его немигающего взгляда, и поспешил сменить тему разговора, грозившего принять непредсказуемый оборот. Л. поселился в общежитии, в девятом номере, где, между прочим, до него жил Мерцалов, которого я имею несчастье слишком хорошо знать. Л. находит смотрителя умным, но двудушным. Жалуется на отсутствие занавесок на окне… Бегло обсудив последние спортивные достижения (Л. сказал, что они его не интересуют, а я про себя подумал: еще неизвестно, кто — кого), я вернулся к Эльвире, которая уже начинала злиться, свернув оранжевые губы колечком…»
Читать дальше
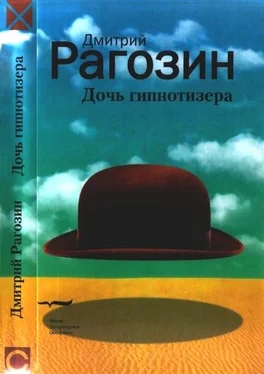

![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)



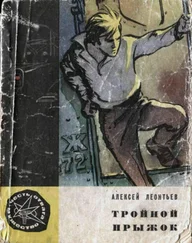


![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)
![Филипп Ли - Звездолеты ждут [СИ] [= Тройной прыжок, другая редакция]](/books/390891/filipp-li-zvezdolety-zhdut-si-trojnoj-pryzhok-thumb.webp)
