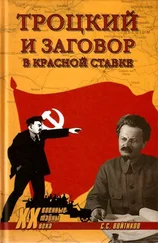Дмитрий Рагозин
Заговор Роман
О романе «Заговор» Дмитрия Рагозина
«Заговор» Дмитрия Рагозина относится к произведениям, на первый взгляд намеренно дистанцирующимся от прямых отсылок к сегодняшнему дню, но, в конечном итоге, оказывающимся едва ли не лучшим свидетельством о нем. Как и в любой аллегории, представление о настоящем возникает здесь исподволь, на краю синтаксических и смысловых интервалов. Конечно, подобных примеров в истории литературы множество, но в случае прозы Дмитрия Рагозина (и, в особенности, «Заговора») уместно говорить о связи с литературой высокого модернизма, которая рассказывает нам о мире между двумя мировыми войнами гораздо больше, чем мемуары того же периода. Помимо центральной коллизии романа Рагозина – некоего загадочного заговора, который становится формой жизни главного героя, отсылающей нас к схожей топике романов Кафки и Набокова, – буквально на каждой странице есть намеки на тексты из давнего или недавнего прошлого. При этом задача непростого и виртуозно написанного «Заговора» совсем не меморативная, не только стилистическая, но прежде всего политическая. Конечно, «политическое» здесь следует понимать в расширительном смысле, не связанном с поэтикой прямого действия или ангажированностью автора, который дистанцируется от поля литературы. Политическое в романе Рагозина является двигателем отношений между героями; но оно же неотъемлемо связано с самим жанром романа, который, как у Элиаса Канетти или Роберта Музиля, оказывается воображаемым пространством, где разрешаются конфликты, настойчиво вытесняемые за пределы социального контекста. Основной такой конфликт – невозможность примирить видимую сторону жизни и ее скучноватый здравый смысл, со скрытой от посторонних глаз ипостасью находящегося на грани растождествления подпольного человека. Причем оба плана существования героя разворачиваются одновременно, обрекая его на одиночество, сепарируя от любых форм общественной жизни, о которой он отзывается с плохо скрываемой брезгливостью.
Почти сто лет назад подобный конфликт стремился разрешить в своих романах Владимир Набоков, с которым Рагозина роднит тяга к прихотливому синтаксису и антиутопиям: невротическая ирония «Заговора» хорошо бы подошла любому набоковскому тексту 1930-х годов, но более всего – клаустрофобическим декорациям романа «Приглашение на казнь», созданного как раз в тот момент, когда описанные в нем вещи стали реальностью сразу в нескольких европейских регионах. Можно сказать, что Рагозин начинает там, где Набоков заканчивает, оставляя приговоренного к смерти Цинцинната Ц. наблюдать, как рушатся декорации наспех склеенного мира, в которые он был против своей воли помещен: «Мало что осталось от площади. <���…> Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа <���…> Все распадалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки подлащенного гипса, карманные кирпичи, афиши <���…>». Конечно, ни разу не названный по имени герой «Заговора» обнаруживает гораздо большую решимость, чем раздавленный пошлостью мира Цинциннат. Понимая, что гротескный мир «крашенных щепок» и «подлащенного гипса» выталкивает его за свои пределы, герой-аноним стремится в самую его сердцевину, ввязываясь в странную борьбу, которая в итоге должна привести к свержению очередного опереточного тирана. Выписывая виртуозные стилистические круги вокруг так до конца и не проясненного заговора, Рагозин связывает инстинкты политического животного и рефлексы частного человека. Это конфликтная связь погружает героя в лабиринтообразное подполье, воспоминания о прошлом перемежаются театрализованными встречами с друзьями и врагами, которые сменяются странными, но эффектными политическими акциями и провокациями. Есть ли выход из этого лабиринта кажимостей? Ответ на этот вопрос – в самом романе, герой которого, превращая гамлетовский монолог в чистосердечное признание, стремится заговорить пустоту, проявляющуюся на месте нашего – частного и общего – существования.
Денис Ларионов
Я расскажу вам все, что вы хотите от меня услышать. Я устал скрывать, скрываться. Об одном прошу – поверить мне на слово. Надеюсь, мне зачтется, что явился я добровольно, явился с повинной.
К своей прошлой жизни я нахожусь в положении всезнающего автора и вынужден, дабы сохранить последовательность рассказа, прятать от себя то, что мне известно, – входить в лифт, не подозревая, что он остановится между восьмым и девятым этажами, устранять неугодных замыслу, вкладывать душу в женщину – в одну, в другую, в третью, которая уже и не женщина, а мое превратное представление о ней. Это беда чистосердечных признаний. Как освободиться от опыта, изобразить прошлое так, будто оно еще не прошло, сбежать от рассказчика, от его пронзительного взгляда? Увы, не обойтись без подмен и подтасовок, сообщающих истории толику связности и покаянного правдоподобия.
Читать дальше
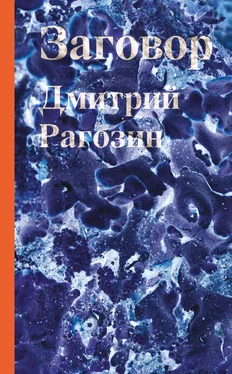
![Станислав Сенькин - Заговор Дракона. Тайные хроники [litres]](/books/29900/stanislav-senkin-zagovor-drakona-tajnye-hroniki-thumb.webp)