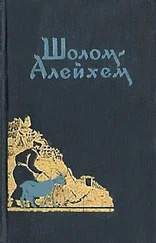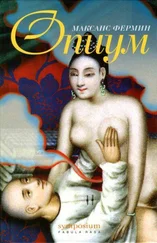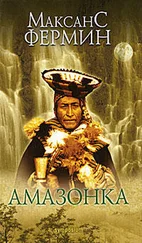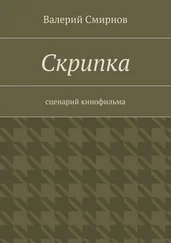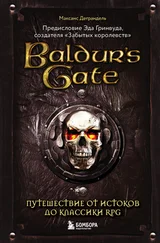— Захватывающе! Но чтобы стать хорошим игроком в шахматы, нужно быть немножко сумасшедшим. Надо мысленно представлять себе шахматную доску с шестьюдесятью четырьмя черными и белыми клетками до тех пор, пока не стронешься от этого рассудком. Это единственная игра, которая взывает к безумию. Потому-то я и играю в шахматы.
— Не уверен, достаточно ли я безумен для этой игры.
— Если вы каждый день будете играть против воображаемого противника, как это делаю я вот уже пятьдесят четыре года, можете быть уверены: вы станете сумасшедшим.
На самом-то деле Иоганн был безразличен и к спиртному и к шахматам. Он заводил о них разговор лишь для того, чтобы сделать приятное Эразму. Единственно, что его по-настоящему захватывало, это музыка. И больше всего интересовала его черная скрипка, что висела на стене над верстаком мастера. Такая прекрасная, такая влекущая, такая очеловеченная, что Иоганну она временами казалась прямо-таки живым существом.
17
— А играть на черной скрипке интересно? — спросил Иоганн на третий день.
Эразм взглянул на него и чуть побледнел.
— Я не советовал бы вам даже прикасаться к ее струнам.
— Почему? Неужто она настолько плоха, что даже не заслуживает того, чтобы на ней играли?
— Совсем напротив! Это самый лучший инструмент из всех, что я знаю. Достаточно даже вздоха, чтобы вызвать в ней вибрацию. Но музыка, которую она рождает, до того необычна, что может полностью переменить жизнь того, кто играет на ней. Это как счастье. Стоит однажды изведать его, и оно метит вас, точно каленым клеймом. Примерно то же самое происходит, если играешь на черной скрипке.
— А вы играли на ней?
— Один-единственный раз. Но страшно давно. После этого я ни разу не брал ее в руки. Это подобно любви. Когда единожды испытаешь ее — я говорю о настоящей, о великой любви, — не остается ничего другого, кроме как заставлять себя забыть о ней. Нет ничего ужасней, чем единственный раз в жизни испытать счастье. После этого все прочее, даже самые незначительные события, воспринимаешь как безмерное несчастье.
18
В тот вечер, придя к себе в комнату, Иоганн приписал несколько нот к партитуре своей оперы. После чего лег спать, и всю ночь ему снилась черная скрипка.
Встав утром, он бросил рассеянный взгляд на свой труд и обнаружил нечто совершенно невероятное: тетрадь его была столь же девственно чиста, как и в тот день, когда он ее купил. За ночь весь его труд испарился.
Чуть ли не с минуту Иоганн стоял, словно пораженный громом, не в силах собрать мысли. И тут ему вспомнился вчерашний разговор с Эразмом и сон, который ночью снился ему. Что-то во всем этом было тревожное. Но может, ему вообще все приснилось? Может, он ничего и не записывал в тетрадь?
Весь день Иоганн пребывал при исполнении служебных обязанностей и не думал о том, что случилось. Однако вечером, вернувшись в дом Эразма, он первым делом направился в мастерскую, чтобы взглянуть на висящую на стене черную скрипку.
И тут Иоганн понял, что именно она и есть причина всего. А принимает это его рассудок или нет, не имеет никакого значения.
19
А спустя несколько дней Иоганн говорил о вдохновении, о музыке, рождение которой он ощущает в себе, но которую по каким-то таинственным причинам ему никак не удается перенести на бумагу, и вдруг с удивлением услыхал, как Эразм задает ему вопрос:
— А когда же можно будет услышать вашу оперу?
Иоганн так растерялся, что не мог выдавить ни слова. Впервые Эразм заговорил с ним о его музыке. Обыкновенно старик-мастер, слушая его, лишь кивал головой, так что Иоганн долго пребывал в убеждении, что Эразм даже не пытается вникать в его слова, а может, вовсе и не слышит их.
Эразм повторил вопрос:
— Так когда же вы завершите свою оперу?
— Сейчас пока рано об этом говорить. Но если все пойдет хорошо, через месяц-другой.
Месяца через два скрипичный мастер снова задал вопрос о его опере.
— Сколько же страниц в вашей партитуре?
Иоганн не без удивления услышал свой ответ, причем произнесенный самым серьезным тоном:
— Сто шестьдесят семь.
— И сколько нот?
— Семнадцать тысяч шестьсот двадцать три, не считая пауз.
— И сколько вы уже написали?
Тут Иоганн промолчал.
По правде сказать, чем дальше он продвигался в сочинении своей оперы, тем все более призрачной и воображаемой становилась она.
20
Иоганн очень долго не решался признаться в этом старику-мастеру.
Читать дальше