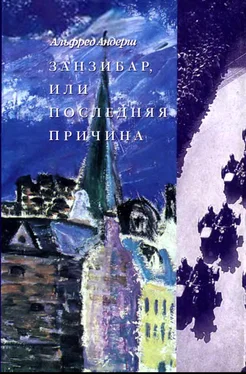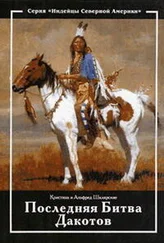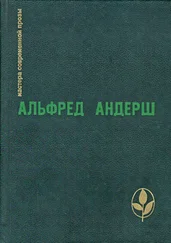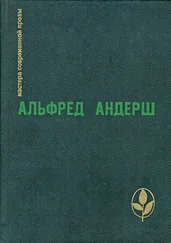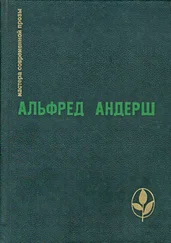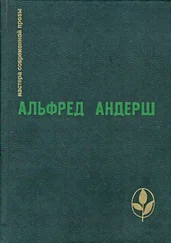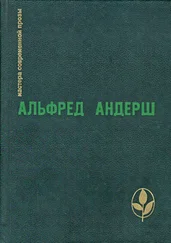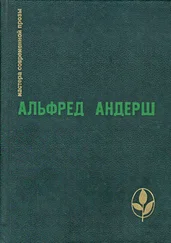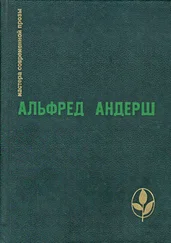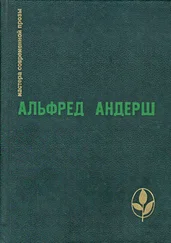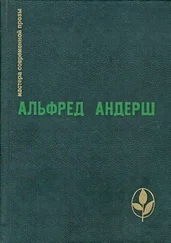Искусство и борьба человека против судьбы осуществляются в актах абсолютной, безответственной, отдающейся Богу и Ничто свободы. Я нашел подтверждение этой догадки, когда годы спустя увидел величайшее произведение искусства, какое только встретилось мне с конца войны, фильм «Похитители велосипедов» итальянского режиссера Витторио де Сика. Каждый знает сюжет: у бедного итальянского рабочего крадут велосипед, и погоня за ним кончается жалкой, неудавшейся попыткой обокраденного решить свою проблему тем, что он сам крадет велосипед. Между отдельными этапами действия на лице этого человека, найденного де Сика на улице, рождается чудо свободы, в которую он погружается, когда потерпевший крах исчезает в потоке массовой судьбы. Особенно заметно это тогда, когда он, забывая свою затравленность, с нежностью смотрит на маленького серьезного сына, который его сопровождает и ведет. Так в оточенной четкости итальянского городского ландшафта живет чудо мечты и игры, в фотографии, напомнившей мне фрески Синьорелли в Орвието, трубу Луи Армстронга, язык Эрнеста Хемингуэя, когда он изображает бой быков, или рынок в Венеции, припудренные розовой пылью развалины Гроссето после бомбежки.
Итак, «Buon viaggio» пожелал мне молодой итальянец, выглядевший — припоминаю я теперь — как герой де Сика в том фильме, и я начал свой поход через дикие, глухие места. Вниз, в речную долину, среди растрескавшихся скал, по холмам, поросшим деревьями. На моей карте эта местность была обозначена как «Campagna diserta». «Diserta», подумал я, тот же корень, что в слове «desert», пустыня, стало быть, как раз подходящее место для дезертиров. Дезертиры — это люди, которые самих себя отправляют в пустыню.
Моя пустыня была прекрасна. У моих ног расстилались ковры из желтых и фиолетовых цветов. Аромат тимьяна и лаванды летел вместе с ветром, который нес с собой и роскошных золотисто-красных бабочек, над холмами, легко касаясь голубых цветков розмарина и больших желтых, похожих на мотыльков цветов мастикового дерева. Вокруг светлой тени, что бросала пиния на заросшую тимьяном пустошь, стояло огромное и золотое солнце, и кругом играл ветер. Снова открылось дно долины со скалами и известково-белым высохшим ложем реки, на берегу которой в оцепенелом молчании застыл серебристо-зеленый кустарник. Я спустился в долину и с трудом стал пробивать себе дорогу через его заросли. Пот выступил у меня из всех пор. Часто мне приходилось пускать в ход штык, чтобы пробиться через густые, упорные заросли, в которых обитали отливающие зелеными, серебристыми и глинисто-коричневатыми тонами змеи и ящерицы. Но зато наверху, на возвышенностях тускской Кампаньи меня снова встретил освежающий ветер, и я лег на цветы, и поел, когда почувствовал голод, и сверился с компасом и с картой, и вгляделся в южный горизонт, где порой, а теперь явственнее, виднелся монастырь.
Но далеко на востоке стояли Апеннины, высокие и благородные в своем диком блеске, а перед ними, на значительном расстоянии, высился окруженный войском возвышенностей и холмов, весь сочащийся солнцем и овеянный, словно флагами, ветром Соракт, рыцарский и вулканический и мертвый, мертвенно величавый в меланхолии этой дикой, вымершей земли, лежащей, как любая пустыня, на краю света, на краю жизни, там, где наша звезда мертво висит под гигантским, пустым небосводом Ничто.
Ближе к вечеру я вышел на кромку пшеничного поля, плавно спускавшегося к долине. За деревьями на другом краю долины я увидел дома, и до меня донесся шум идущих танков, более звонкий и более равномерный, чем привычный мне шум немецких танков. Я услышал лязгающий грохот гусеничных цепей. Он доносился издалека, с запада, где уже возникал красноватый отсвет. И тогда я совершил нечто невероятно патетическое — но я сделал это, — взял свой карабин и швырнул его в высокие волны хлеба. Я отцепил от ремня патронную сумку, снял каску и бросил вслед за карабином. После этого я пошел дальше по полю. Внизу я снова попал в заросли. Я стал пробиваться сквозь них, густые колючки расцарапали мне лицо; это была трудная работа. Тяжело дыша, я поднимался вверх.
В лощине на противоположном склоне я нашел дикую вишню, на которой висели зрелые плоды, блестящие и светло-красные. Трава вокруг дерева была нежной и по-вечернему зеленой. Я пригнул ветку и стал собирать вишни. Лощина была как комната; грохот танков звучал здесь приглушенно. Пусть подождут, подумал я. У меня есть время. Пока я ем вишни, время принадлежит мне.
Читать дальше