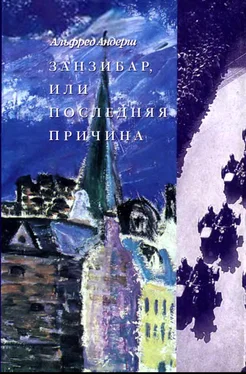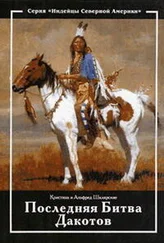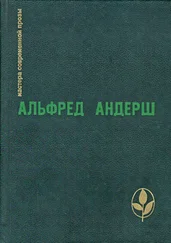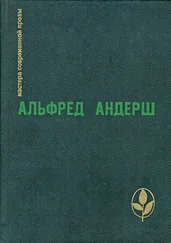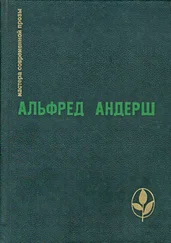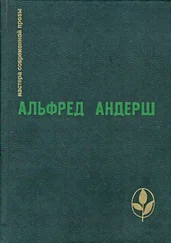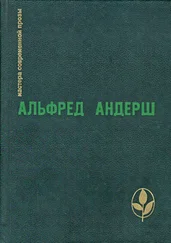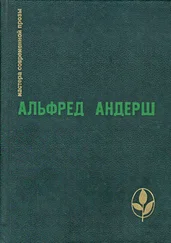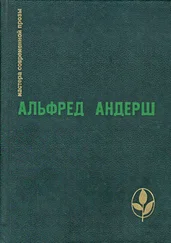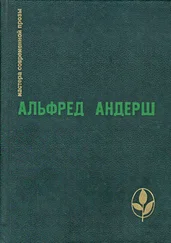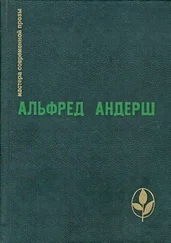Но по отношению к принудительной армии старого стиля человек, если только он этого хочет, может сослаться на свои основные права.
Против крайнего принуждения безоговорочной всеобщей воинской повинности и приказной присяги он может выбрать лишь крайнюю форму самозащиты: дезертирство.
Хотелось бы мне, чтобы я разбирался во всем этом уже тогда, когда стоял возле своего перевернутого велосипеда на шоссе в центральной Италии и озирался по сторонам, как загнанный зверь. Но возможно, что это было бы плохо — знать слишком много в момент действия, держать в голове все аргументы и контраргументы и тезисы; для того, кто действует, незнание может означать фору. Осматриваясь и проверяя местность, я думал — с буйным чувством торжества — лишь о свободе, которую добыл себе сам.
Там, где я стоял, дорога вилась по длинному холму. Я взял велосипед и с трудом потащил его вверх по склону, метров на сто, пока не оказался в рощице, состоявшей из молодых, густо растущих акаций. Когда меня нельзя было уже увидеть с шоссе, на котором время от времени появлялся то связной-самокатчик, то грузовик, то несколько отставших пехотинцев, спешивших догнать основную массу отступавших, я опустился на землю.
Устроившись поудобней, я быстро заснул. Иногда просыпался и, прищурив глаза, рассматривал сквозь крышу из листвы проносившиеся очень низко самолеты, которые пулеметными очередями накрывали какие-то цели на шоссе.
В пять часов пополудни я решил двинуться в путь. Я съел немного печенья — готовясь к операции, я запасся печеньем и шоколадом на три дня — и приготовился к походу. Я изуродовал заднюю шину велосипеда так основательно, что для каждого испытующего ока невозможность ремонта была очевидной; затем я вернулся на шоссе и, ведя велосипед, отправился в путь. Самолеты почти полностью исчезли с неба, и только один-единственный раз из-за пролетающей над шоссе машины мне пришлось искать укрытие. Дорога была совершенно пустынной, казалось, что у войны выходной. Время от времени я встречал бредущих в обратном направлении солдат, но не обменивался с ними приветствиями, кроме одного фельдфебеля, который, хотя я его об этом не просил, рассказал мне, что его передвижная радиостанция лежит разбитая «там, впереди», при этих словах он не очень отчетливо указал на юг. «Там, впереди, — добавил он, — американцы, множество американцев».
— Но впереди ведь, наверно, есть достаточно и немецких войск, — спросил я, желая прозондировать обстановку. — Не видели ли вы случайно мою часть?
— Самокатчики? — переспросил фельдфебель и недоверчиво посмотрел на мой велосипед. Да, пару бедолаг, сбившихся с пути, он там — снова неуверенный жест, указывающий направление, — видел. Но это почти и все, кроме них, никого вблизи от врага нет.
— Поторопись, приятель, — ухмыльнулся он, — смотри не опоздай, когда противник схапает твою команду.
— Да обойдется как-нибудь, — ответил я.
Он рассмеялся во весь рот каким-то невыразительным смехом и пошел дальше.
Некоторое время шоссе еще пролегало среди полей, потом пейзаж стал более изощренным, и дорога пошла то вверх, то вниз. Из холмов все больше выступали скалы, образованные из светлого пористого камня, в котором открывались входы в пещеры. Перед одной из таких пещер стоял на посту украинец, рассказавший мне на ломаном немецком, что внутри скалы расположены большие склады оружия.
Пейзаж становился все романтичнее, а день постепенно клонился к вечеру. Впервые за много суток небо заволокло облаками, и при этой мрачной погоде, под налетевшими ударами ветра хорошо было идти. За одним из поворотов прямо в долине вдруг открылись дома городка Вейано. Я остановился и внимательно поглядел вниз. «Надеюсь, там нет никого из нашего эскадрона», — подумал я.
В сумерках Вейано казался совершенно заброшенным. Ни из одной трубы над плоскими, серыми черепичными крышами не вился дымок. Я увидел, что несколько домов повреждено бомбами. В конце концов я решился и вошел в городок.
Дома были высокие, серые и заброшенные и, как дома всех маленьких итальянских городов, сложены из беспорядочно вырубленного тесаного камня. Я шел по узким улочкам, не слыша ничего, кроме звука собственных шагов и постукиванья велосипедных колес. Я остановился и подумал: в этих домах я мог бы остаться и ждать, пока придут американцы, в домах, в которых есть, наверное, постели, комнаты, уголки, чтобы спрятаться и ждать. Я нерешительно подошел к дверям одного из домов. Внутри было темно и затхло, пахло соломой, холодным камнем и нечистотами. И стояла пугающая тишина. Наверх вела лестница из холодных, серых каменных плит. У стены стояла лопата. Я повернулся и вышел на улицу. В темных, лишившихся стекол оконных проемах неподвижно висели веревки, на которых обычно развешивают рубахи или кукурузные початки.
Читать дальше