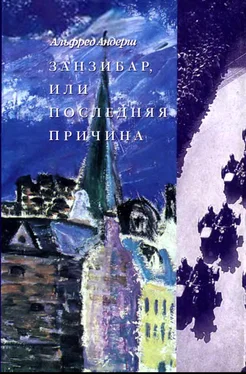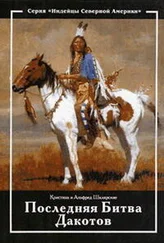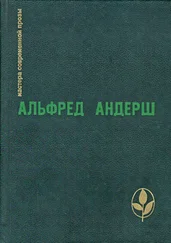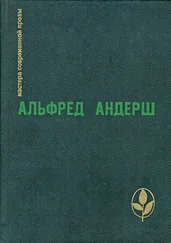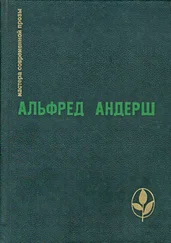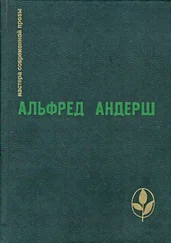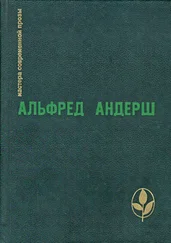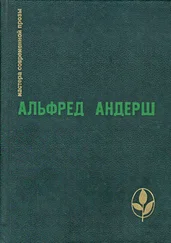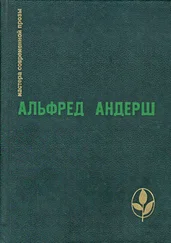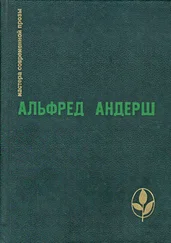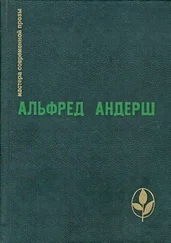Он делает это в первую очередь на основе тщательнейших расчетов, то есть опираясь на разум, но только страсть может создать такую чистую форму, в которой еще не угас отзвук тайной борьбы между мужеством и страхом в груди Дика Барнета; ощущается, что, создавая эту форму, он двигался по острию ножа. Одно малейшее движение, и он бы сорвался. Один-единственный ложный поворот ума — и реактивный истребитель F-94 не стал бы тем совершенным произведением искусства, каким он является. А ведь есть еще и атмосфера Бербэнка, Калифорния, настроение, воздействующее совершенно неосознанно для Барнета, определенный красный цвет бензоколонок на заправочной станции, по утрам, на пути к заводам «Локхид», или линия шеи его жены, в свете уличного фонаря, когда вчера вечером, возвращаясь из кинотеатра, они вышли из автомобиля.
Миллионы настроений, воздух нашей души, эфирный, то есть быстро испаряющийся элемент, в котором обитают наши свойства, — возникают из Ничто или от Бога.
Я набросал эскиз моего образа человека. Возможны варианты. Я не философ. Задача писателя — описание. Я не интерпретировал человека, как это делают философы, а описывал его. Описывал человека, потому что должен описать свой страх. Запрятанный в нас страх, который мы не имеем права разрушать, если хотим остаться живыми.
Например, страх, испытанный четыре года назад у подножья горы Лимбург, в нескольких километрах севернее Брейзаха, на берегу Верхнего Рейна, в зарослях пойменного леса, когда началась война. Французская артиллерия ежедневно обрушивала на наблюдательный пункт у Лимбурга определенное количество снарядов. Под грохот этих снарядов, пролетающих над головой, я сидел с группой солдат строительной роты, в которую меня зачислили. Все мы испытывали страх, особенно в первый раз. Никогда еще мы такого не слышали. А было это вполне безобидное дело, просто детские игрушки по сравнению с тем, что началось потом, вместе с ночными бомбежками на так называемой родине. Но именно потому, что дело было такое безобидное, страх проявлялся особенно явственно.
Он начинался вместе с ожиданием напоминавшего звук вылетающей пробки залпа французских орудий, стоявших по ту сторону, на краю рейнских джунглей. С пением приближающегося снаряда он возрастал и, наконец, всаживал свое кинжальное жало в желудочек сердца, как раз тогда, когда снаряд словно замирал на какой-то миг над нашими головами. Это был тот миг, когда даже испытанный фронтовик унтер-офицер наконец-то переставал объяснять нам, что снаряд, приближение которого мы слышим, не опасен; секунда, когда я, прервав свое судорожно-лирическое созерцание одного из протоков древнего Рейна, лежавшего передо мной, отводил взгляд от зарослей ивняка с их серебряной листвой, от покрытого глинистой коркой остова корабля в желтой стоячей воде, от зноя и молчания — мой натренированный взгляд, который я научился задерживать на чем-то в секунду страха, — и вместо этого проводил прямую линию между своими глазами и грязными носками сапог, которые, явно отделившись от меня, хотя из них торчали мои ноги, стояли на земле, опираясь на металл моей саперной лопатки.
Позднее, мы привыкли к этому, как и к настроению, в которое нас ввергали тучи комаров и несусветный зной. Но тогда свобода была невозможна, невозможен тот длящийся долю секунды перерыв тока, напряжения между страхом и мужеством, из-за чего и следовало сохранять страх, чтобы остаться в живых.
Нет, тогда, весной 1940 года, на Верхнем Рейне, свобода покинула мир и меня. Дезертирство было невозможно, да я и не хотел его; нельзя было пересечь бурный поток Рейна, а если бы это и удалось, пришлось бы натолкнуться на армию, которой предстояло поражение. Но плохо было то, что я даже не желал дезертирства. Я был тогда в таком упадке, что считал победу немцев возможной. Я считал тогда, что у канализационной крысы есть шанс. Всякий раз, думая об этом, я мысленно плююсь. Но у меня, по крайней мере, еще хватало чутья сохранить свой страх. Если бы я его преодолел и разрушил, дал бы мужеству одержать верх, я стал бы равнодушным. «Тупым» — вот правильное выражение. Я стал бы тем, во что намерена была превратить меня крыса, вылезшая из канализационного люка.
В годы войны, которые затем последовали, я пас не только мужество, но и страх, вплоть до тех дней, когда решился на побег. Никогда у меня не хватило бы мужества бежать, если бы в той же мере, в какой я был смел, я не был бы труслив.
Таким я был под Пьомбино, на холме, когда глядел на опустошенный, проникнутый вселенским страхом, изуродованный военной техникой пейзаж, и таким я был в тот день — на следующий день после гонки по холмам, — когда вместе с Вернером осторожно продвигался по шоссе, ведущему через долину мареммы.
Читать дальше