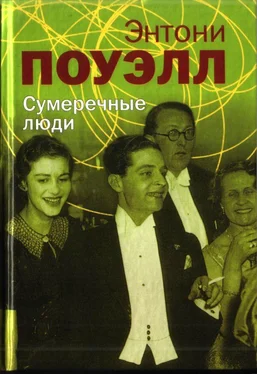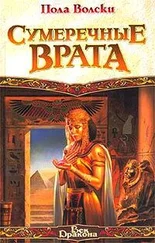— Скажите, Сьюзан уехала в Америку навсегда? — спросил Этуотер.
— Что вы, думаю, она скоро вернется. Хочется на это надеяться.
Помолчали. Этуотер даже не пытался поддержать разговор. После паузы мистер Наннери сказал:
— А кто еще гостил у Прингла?
— Вы знакомы с Наоми Рейс?
— Как же, как же. Знавал когда-то.
— А с Барлоу?
— Знаю, живописец.
— А с Харриет Твайнинг?
— Вот кто мне нравится, — сказал мистер Наннери. — Как она?
— Очень хорошо.
— Я вижу, компания у вас подобралась неплохая.
— Очень даже.
Последовала еще одна пауза. Может, у меня такое состояние от портвейна, подумал Этуотер.
— Как вы думаете, зима будет теплой? — спросил мистер Наннери.
— Холодной.
— Вот и я тоже так считаю. Холодной.
— Верелст хорошо знает Америку, правда?
— Насколько мне известно, он там состояние нажил.
— Я бы и сам туда при случае съездил.
— Я бы тоже, — сказал мистер Наннери. — На Уолл-Стрит кое-что сделать можно. Там ребята на бирже хоть куда — не то что здешние старухи, черт их дери.
— Мне пора, — сказал Этуотер.
Он вдруг почувствовал, что не может оставаться здесь ни секунды.
— Что это вы? Ради Бога, не уходите.
— Нет, пора.
— Ну что ж, раз пора, какие могут быть разговоры. Простите, что не осталось больше портвейна.
— До свидания.
— До свидания, — сказал мистер Наннери. — Заходите, не пропадайте. Боюсь, как бы мне завтра или послезавтра не выключили телефон за неуплату. Обычно-то я плачу вовремя.
— До свидания.
— Погодите. Какое слово вы назвали?
— Барокко.
— И оно подходит?
— Вы сами сказали, что подходит.
— Ну да, — сказал мистер Наннери. — Сейчас его запишу, а то опять забуду.
33.
Этуотер спустился по вонючей лестнице, вышел на улицу и долго шел пешком. Какая жалость, думал он, что я совершенно не помню, как выглядит Сьюзан. Теперь, когда она уехала, и увидеться с ней он не мог, он тщился представить, что вскоре встретится с ней вновь, однако в памяти у него сохранился лишь цвет ее платья в тот день, когда он увидел ее впервые. И когда он попытался себе ее представить, даже это платье расплылось в какое-то бесцветное пятно, и в его памяти не осталось от нее вообще ничего. Они не переписывались, и ему вспоминались модуляции ее голоса в телефонной трубке — не то, что она говорила, а как. Стало быть, ее больше нет, нет больше этого странного, очаровательного существа, которое он так сильно и так безнадежно любил и которое не только теперь, но и раньше было от него так далеко. Это странное, очаровательное существо покинуло его, уехало навсегда, теперь он уже никогда больше ее не увидит, и в его памяти она останется лишь странной, безответной любовью. Этуотер дважды обошел вокруг сквера, почувствовал, что устал, и вскочил в подъехавший автобус. Он поднялся наверх и сел впереди. Она уехала в Америку, с Верелстом. Слева от него за окном тянулся парк, мелькали деревья. А может, этот старый дуралей спьяну все перепутал? Может быть, она вообще никуда не уезжала? Ему надоело ехать в автобусе, он сошел и снова зашагал пешком. Теперь он думал, как бы им жилось вместе, поведи он себя иначе. Или что было бы, если б все шло по-старому. Ведь он предпочитал сидеть у себя дома и читать, а мог бы в это время говорить с ней по телефону. Но сколько раз бывало, что он сам искал встречи с ней, а ей хотелось проводить время с другими. Сколько раз бывало, что ее не оказывалось дома, или ей надоедало общаться с ним, или она не приходила на свидание, или неважно выглядела. Что ж, пожалуй, она правильно поступила, что бросила его и уехала. Уехала с этим ублюдком Верелстом, в котором, в сущности, не было ничего плохого. И все-таки не верилось, что она уехала, уехала навсегда. В то время как он сидел, зевая, у себя в музее, или пререкался с Принглом, или занимался любовью с Лолой или с Харриет либо с какой-нибудь другой никчемной девицей, с которой познакомился на какой-нибудь никчемной вечеринке, — она была с Верелстом, а теперь вот взяла и уехала с ним в Америку. Какой же он был дурак! Какой дурак. Но ведь она же сама говорила, что у них нет будущего. И все же, что бы она там ни говорила, он думал о том времени, когда по его вине ее с ним не было. О том времени, когда она — теперь-то он это понимал — привносила смысл в его жизнь. Думал он и о том, что теперь ее с ним уже никогда не будет, и он не сможет даже видеть ее, быть с ней рядом, разговаривать с ней, смотреть на нее. О том, что теперь он будет слышать о ней лишь от этих ничтожеств, которые так любят посплетничать, посудачить, порассуждать о личной жизни таких же ничтожеств, как и они сами. Ведь теперь ее здесь нет; нет, и не будет. У них бывали свидания, когда он сам чувствовал, что вся эта история — не более чем глупая ошибка и что она — совсем не та, за кого он ее принимает, и что ему не доставляет никакого удовольствия быть с ней. Но стоило им расстаться, как он начинал понимать, что ошибался, и что ее воображаемый образ и есть истина, тогда как реальный — иллюзия. Он подошел к входу в Гайд-парк и подумал, что все это неправда, не могла она уехать. А с другой стороны, почему, собственно, не могла? Ведь говорила же она ему, и не раз, что такое может произойти, давала понять, что это вполне возможно. Какой же он был болван! Поверил этому проклятому Верелсту, его проклятому письму про какой-то там проклятый отель. Как бы то ни было, здесь ее больше нет. Он пошел по Пикадилли. Представить себе Лондон без нее было совершенно невозможно. Но ведь знакомы они были совсем недолго. Чем занимался он всю жизнь, до их встречи? А может, все дело в этом гнусном портвейне? Это из-за него он пришел в такое состояние?
Читать дальше