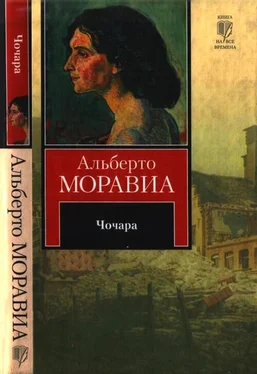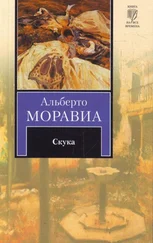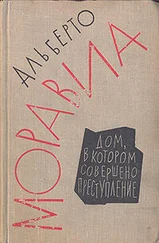Тут пошел дым коромыслом, и начался такой скандал, что и не опишешь, с душераздирающими криками и воплями. Жена беженца, маленькая болезненная женщина, растрепанная и оборванная, повторяла громким пронзительным голосом: «Проваливай, проваливай!» — даже неизвестно что желая этим сказать, а жена Филиппо не менее громко кричала ей в лицо, что они воры. Так продолжалось довольно долго; одна повторяла это единственное слово: «Проваливай!», а другая вопила: «Воры!» Так стояли они друг против друга, в кольце беженцев, как две разъяренные курицы, но рукам воли не давали. А тем временем мы с Розеттой, хотя и не без угрызений совести, уплетали хлеб Филиппо. И чтобы не обращать на себя внимания, сидели в темноте, а при каждом вопле двух женщин откусывали за милую душу по кусочку. Признаюсь, этот краденый хлеб, пожалуй, казался мне вкуснее своего именно потому, что был краденый и ели мы его потихоньку. Во всяком случае, с этого дня Микеле старался брать хлеб осторожнее, отрезал по ломтику от нескольких булок так, чтобы его семья не заметила, и действительно никто этого не замечал и скандалов больше не было.
Так прошел апрель, со своими цветами и сосущим чувством голода, и наступил май, а вместе с ним жара. Теперь к голоду и нашему отчаянию прибавилась новая пытка — тучи мух и ос. В нашей лачуге мух развелось такое множество, что мы, можно сказать, целый день только тем и занимались, что их давили, а ночью, когда мы ложились спать, засыпали и они, сидя на веревках, куда мы вешали нашу одежду, и было их столько, что веревки казались черными. Осиные же гнезда были у нас под крышей, и осы летали целыми роями. Не дай Бог их тронуть — они жалили очень больно. Целый день с нас лил пот, видно, от слабости; с наступлением жары, не знаю уж сама почему, может, оттого, что нам не удавалось ни как следует вымыться, ни переменить платье, мы вдруг увидели, что превратились в самых настоящих оборванок-нищенок, таких, как те существа без пола и возраста, что просят милостыню у ворот монастырей. Несколько платьев, что у нас были, превратились в лохмотья и воняли от грязи, на наши чочи (туфель у нас давно уже не было) просто жалко было смотреть — они были все в заплатах, сделанных Париде из кусков старых автомобильных шин. У нас в комнатке из-за мух, ос и жары невозможно было жить, и она, вместо убежища, каким служила зимой, теперь стала прямо тюрьмой. Розетта, несмотря на всю свою мягкость и терпение, страдала от такой жизни, может, еще больше, чем я, ведь я родилась в крестьянской семье, а она в городе. Однажды она мне даже сказала:
— Ты, мама, все время говоришь о еде… а я бы согласилась голодать еще целый год, лишь бы надеть чистое платье и жить в чистоте.
А все дело в том, что почти не было воды, так как уже около двух месяцев не шел дождь, и Розетта теперь, когда без этого действительно нельзя было обойтись, не могла больше обливаться водой из колодца, как она это делала зимой.
В мае я узнала одну вещь, по которой можно судить, до какого ужасного отчаяния дошли беженцы. Как-то собрались они, кажется, у Филиппо, причем одни только мужчины, и решили, что если англичане не придут до конца мая, то беженцы — у них у всех было оружие, у кого револьвер, у кого охотничье ружье, у кого нож, — добром или силой заставят крестьян поделиться своими запасами и отдать их для общего пользования. На этом собрании присутствовал также и Микеле, он сразу же, как потом нам рассказал, стал возражать, заявив, что в таком случае встанет на сторону крестьян. Тогда один из беженцев ему сказал:
— Прекрасно, раз так, то мы будем считать, что ты заодно с ними, и будем обращаться с тобой, как и с крестьянами.
В общем, дело, наверно, все равно кончилось бы одними разговорами, ведь беженцы все же были добрые люди, и я сильно сомневаюсь, чтобы они пустили в ход оружие; однако этот случай показывает, до какого они дошли отчаяния. Другие же, как я узнала, готовились теперь, когда наступила хорошая погода и земля подсохла, уйти из Сант-Эуфемии и пробраться на юг, через линию фронта, или же на север, где, по слухам, будто не было нехватки в продуктах. Некоторые же говорили, что пойдут пешком в Рим, потому, мол, здесь, в деревне, можно десять раз умереть с голоду и никто этого и не заметит, а в городе обязательно помогут, потому что там боятся революции. В общем, под жарким майским солнцем все пришло в движение, закопошилось, каждый вновь стал думать о себе и о спасении собственной шкуры, многие теперь даже готовы были рискнуть жизнью, только бы выйти из этого состояния бездействия и бесконечного ожидания.
Читать дальше