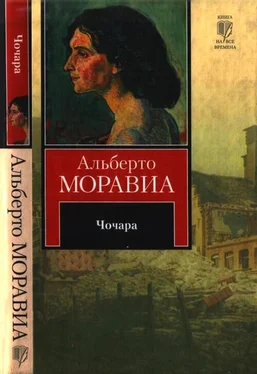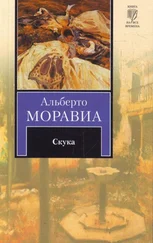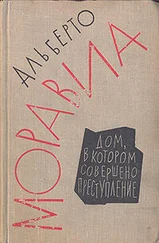Однако я была совсем огорошена поведением Микеле. Не скажу, что он должен был ругать немцев в глаза, но все это вранье, которое он преподнес им с таким нахальным видом, меня крайне удивило. Высказала ему я это, а он, пожав плечами, ответил:
— С нацистами все дозволено: и врать, и предавать, и, если возможно, убивать. Как ты вела бы себя с ядовитой змеей, с тигром, с разъяренным волком? Ты ведь старалась бы справиться с ними, не очень-то разбираясь в средствах. Небось ты не пыталась бы их уговаривать или как-нибудь задобрить, заранее зная, что это бесполезно. Так же и с нацистами. Они поставили себя вне рода человеческого, они жестоки, как дикие звери, и потому по отношению к ним все средства хороши. Ты тоже, как и этот столь образованный английский офицер, никогда не читала Данте. Но если бы ты его читала, знала бы, что Данте говорит: «И любезностью была в нем грубость его».
Спросила я, что же означает эта фраза Данте, и он тогда объяснил мне, что он хотел этим сказать: по отношению к таким людям, как нацисты, даже лгать им и их предавать — это и то слишком большая любезность, не заслуживают они даже этого. Тогда я сказала, просто так, лишь бы что-нибудь сказать, что ведь среди нацистов, как всегда это бывает, могут быть и хорошие, и плохие люди, и откуда он может знать, что эти двое плохие? Но Микеле тут рассмеялся:
— Здесь дело не в том, хорошие они или плохие. Может, они и хороши со своими женами и детьми: ведь волки и змеи тоже хорошо относятся к своим детенышам и самкам, но по отношению ко всему человечеству — а это ведь самое главное, — то есть к тебе, ко мне, к Розетте, ко всем этим беженцам и крестьянам они могут быть только плохими.
— А почему?
— Потому, — сказал он, на минуту задумавшись, — что, по их убеждению, то, что мы называем злом, это добро. И поэтому, совершая зло, они думают, что делают добро, то есть исполняют свой долг.
Не убедил меня Микеле, мне казалось, что я не до конца поняла его слова. Однако он меня уже не слушал и закончил, словно говоря сам с собой:
— Да, конечно, сочетание всяческого зла и чувства долга — вот это и есть нацизм.
В самом деле, любопытный тип был этот Микеле — такой добрый и в то же время такой суровый.
Помню другую нашу встречу с немцами, произошла она совсем при других обстоятельствах. Как всегда, у нас было очень мало муки — теперь когда я пекла хлеб, то пускала в ход не только мелкие, но и крупные отруби. Поэтому однажды мы решили сходить в долину и попытаться достать там немножко муки в обмен на яйца. Купила я у Париде яйца, их было шестнадцать штук, и я надеялась, доплатив еще денег, получить за них несколько килограммов белой муки. Мы еще ни разу не спускались в долину с того самого дня, как попали под бомбежку, которая до смерти напугала бедного Томмазино, и, сказать по правде, отчасти тоже поэтому неохота мне было идти в долину. Уж не помню, как я сказала об этом Микеле, и тогда он предложил нас сопровождать. С радостью я согласилась, с ним мне было спокойнее; не знаю почему, там, в горах, он единственный вселял в меня смелость и уверенность.
Так вот, положили мы яйца в корзиночку, прикрыли их соломой и рано поутру отправились в путь. Было это в первых числах января — в самый разгар зимы и, как я чувствовала, хотя и не могла себе этого хорошенько объяснить, в самый разгар войны, иными словами, в самый тоскливый, самый холодный, самый безнадежный момент того отчаяния, которое длилось уже столько лет. В последний раз я спускалась в дол и ну как раз тогда, когда мы ходили вместе с Томмазино, — на деревьях еще были листья, хотя уже пожелтевшие, на лугах из-за обильных дождей зеленела трава, а на склонах гор кое-где еще виднелись последние осенние цветы — цикламены и лесные фиалки. Но теперь, чем ниже мы спускались, тем больше нам бросалось в глаза, что все вокруг высушено, выжжено, серо и голо, все выглядит безжизненным в холодном, не согретом солнцем воздухе, под пасмурным и тусклым небом. Вышли мы из дому в довольно веселом настроении, но сразу же приумолкли: день стоял тихий-тихий, какие именно бывают в самые холода, и эта тишина сковывала нас и мешала нам говорить. Сначала мы спустились вниз по склону с правой стороны долины, потом пересекли площадку, где среди кактусов и скал упала бомба, сброшенная с самолета в тот день, когда мы шли с Томмазино, а затем направились по левому склону горы.
Так шли мы, не разговаривая, еще с полчаса и наконец через ущелье вышли в долину, как раз к тому месту, где на перекрестке, у мостика, стоял домик, в котором жил Томмазино до той злосчастной бомбежки. Мне запомнилось это место — такое веселое, живописное, такое просторное, и очень я удивилась, увидя его теперь таким печальным, серым, голым и убогим. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть женщину без волос? Я видела однажды — это была одна девушка в моей деревне, у нее после тифа часть волос выпала, а часть ей пришлось остричь под машинку. Будто ее подменили, у нее появилось даже новое выражение лица; ее голова напоминала огромное безобразное яйцо, гладкая и лысая, каких никогда не бывает у женщин, а лицо, не оттененное волосами, казалось при ярком свете словно расплющенным. Точно так же, без густой зеленой листвы трех высоких платанов, отбрасывавших тень на домик Томмазино, без травы, скрывавшей камни на берегу речки, без кустов, росших по обе стороны дороги и канавы, — правда, тогда я их не замечала, но они, конечно же, там росли, так как теперь я ощущала их отсутствие, — без всего этого место было ничем не приметным, просто никаким, утратило всю свою прелесть, совсем как женщина, если ей остричь волосы. И не знаю сама почему, при виде этого обезображенного уголка у меня сжалось сердце, и показалось, что он, пожалуй, чем-то напоминает сейчас наши жизни, ставшие такими же серыми и убогими из-за этой нескончаемой войны, отнявшей у нас все мечты и надежды.
Читать дальше