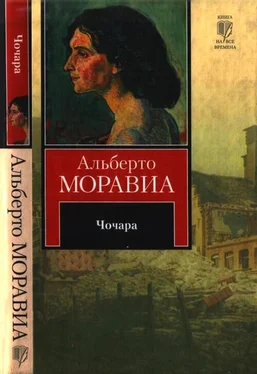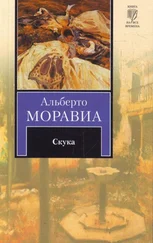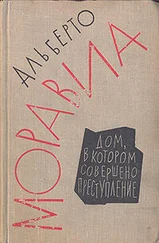— Вот здесь, среди этих садов, живет знакомая мне семья, — сказал он не задумываясь, — тут вы и побудете, пока Рим не освободят. Как только станет возможно, я вас сам отвезу в Рим на своем грузовике.
И снова я ничего не сказала. Он круто повернул машину и остановил ее, а затем вылез из кабины, объяснив, что нам придется пешком дойти до дома его друзей. Мы зашагали по тропинке между апельсиновыми деревьями. Место, в которое мы попали, теперь уже не казалось мне незнакомым: все те же апельсиновые деревья и тропинка, как сотни других; но почему-то по некоторым признакам я поняла, что именно по этой тропинке, мимо вот этих деревьев мне уже не раз приходилось хаживать. Мы шли еще минут десять и затем вдруг очутились на лужайке. И тут мне сразу все стало ясно: перед нами был розовый домик Кончетты, той самой Кончетты, у которой мы жили в первые дни, проведенные в Фонди. Я сказала решительно:
— Нет, здесь я не останусь.
— Отчего же?
— Оттого, что здесь мы уже были много месяцев назад, и нам пришлось удрать отсюда, это семья разбойников, а Кончетта хотела, чтоб Розетта ублажала фашистов.
Тут он расхохотался:
— Дело прошлое, дело прошлое… фашистов сегодня больше нет… а сыновья Кончетты не разбойники, это мои компаньоны, и можешь быть спокойна, с тобой они будут вежливы… Дело прошлое…
Я было хотела настоять на своем, повторить, что в доме у Кончетты мы жить не будем, но не успела: из дому уже выскочила Кончетта и через лужайку бежала нам навстречу, все такая же веселая, возбужденная и восторженная.
— Добро пожаловать, добро пожаловать, — кричала она, — живой с живым всегда повстречается. Нечего сказать, обе удрали, даже «до свидания» не сказали, даже денежек не заплатили. Знаете, а вы хорошо тогда сделали, что удрали в горы, и моим сыновьям вскоре пришлось уйти к партизанам, ведь проклятые немцы всюду облавы устраивали. Хорошо, хорошо сделали, у вас ума побольше, чем у нас, мы здесь бог знает чего только не пережили. Добро пожаловать, добро пожаловать, рада вас видеть в добром здравии, ведь дороже здоровья ничего нет на свете. Проходите, проходите. Вот уж Винченцо с сыновьями обрадуются. Да и привез-то вас Клориндо, а это все равно, что сын родной привез; он у нас теперь и впрямь как член семьи; присаживайтесь, будьте как дома.
Словом, это была все та же Кончетта, и сердце у меня сжалось, когда я подумала, что мы теперь вернулись к прежнему, пожалуй, даже к худшему, ведь обе мы удрали из ее дома, чтобы избежать той самой опасности, какая потом безжалостно настигла нас в моей деревне. Но я промолчала, дала себя расцеловать и обнять этой противной женщине, то же сделала и Розетта — теперь она была похожа на куклу, до того стала равнодушной и безразличной ко всему.
Тем временем из дому вышел Винченцо, все больше походивший на птицу, вешающую беду; он так исхудал, что страх брал, а нос стал совсем как клюв, брови же еще ниже нависли над метавшими искры глазами. Винченцо, бормоча что-то невнятное, взял мою руку в свою, а у Кончетты в это время хватило наглости сказать мне:
— Винченцо видел вас в Сант-Эуфемии, когда вы были у Феста. Ну и тяжелая была для них зима. Сперва добро у них пропало. Да, такой это соблазн для нас был, не удержались; ну, а потом случилась беда с сыном, с Микеле. Жаль мне их; мы все, что взяли, конечно, отдали; все, кроме того, что уж успели продать, ведь мы люди честные, для нас чужое добро святыня. А сына им никто не вернет. Бедные они, бедные.
Правду вам скажу, как услышала я эти наглые и лживые слова, так почувствовала, что сердце у меня упало, вся я похолодела и стала, должно быть, белее мела. Я едва могла произнести:
— Почему? Разве что случилось с Микеле?
И она, все с тем же восторгом, будто сообщая нам радостное известие, ответила:
— А разве вы не знаете? Его убили немцы.
Мы стояли посреди тока, и вдруг мне показалось, что я падаю в обморок; тут я впервые поняла, что любила Микеле, как собственного сына; кое-как добралась я до стула, стоявшего у двери, и закрыла лицо руками. А Кончетта тем временем продолжала возбужденно рассказывать:
— Да, немцы убили его, когда сами бежали. Говорят, они забрали его с собой, чтобы он показал им дорогу; шли они в горах, а потом попали в заброшенное место, там жила крестьянская семья; Микеле не знал, где проходила хорошая дорога, и немцы стали расспрашивать этих крестьян, в какую сторону бежал противник. Они-то имели в виду англичан, которые для них и впрямь были врагами. Но эти крестьяне, бедняжки, как и все мы, итальянцы, верили, что противник — это немцы, и ответили им, что враг бежал в сторону Фрозиноне. Немцы разозлились, когда услышали, что их обзывают врагами, — ну ведь это, известно, никому не понравится, когда его врагом обзывают, — да и навели автоматы на крестьян. Тогда Микеле встал между ними и закричал: «Не стреляйте, они ни в чем не виноваты!» Ну, его немцы и убили вместе со всеми другими. Всю семью убили. Сами знаете, война не шутка, целую семью убили, просто резня настоящая, мужчины, женщины, дети — никого не пожалели, и Микеле поверх этой кучи, с пулей в груди, ведь они стреляли ему прямо в грудь, когда он, бедняжка, встал между ними и крестьянами. Знаем мы об этом от одной девчонки, спряталась она за стогом сена и поэтому спаслась, а потом прибежала к нам и рассказала обо всем. Но как же вы-то об этом не знали? Ведь в Фонди все говорят… Вот она — война.
Читать дальше