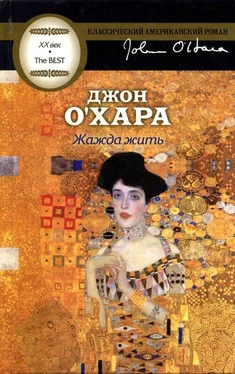— Хочешь знать почему? Не хочешь, но я все равно скажу, — закончил Брок.
— Могу догадаться, — сказал Уильям. — Мне стыдно за тебя, но хорошо хоть хватило совести сохранить все в тайне и не выставлять на всеобщее обозрение семью и друзей. Я заплачу сколько надо, но не возвращайся домой до тех пор, пока доктор не скажет, что ты в порядке. Но знаешь, сын, при всем при этом я восхищаюсь тобой… тем, что ты защищаешь… защищаешь свою репутацию. И надеюсь, лечение будет не слишком болезненным.
— Спасибо. Маме я сказал, что нашел себе кое-какую работу в Пенсильвании. Что же до репутации, то я берегу не свою. Твою.
— Спасибо и за это, Брок. Но знаешь ли, это одно и то же. Моя репутация — твоя. Я всегда старался сберечь твою, поддерживая свою.
— Понятно, — сказал Брок. — По-моему, тебе никогда не приходилось уезжать из дому дальше, чем в Филадельфию, да и то раз в полгода или даже в год.
— Это верно, — согласился отец, — в этом отношении мне везло.
Вернувшись из Филадельфии, Брок вернулся и в тир, и к своим на время оставленным привычкам. Быт свой он выстроил так, чтобы проводить с матерью, отцом и сестрой лишь необходимый минимум времени. На четвертом этаже дома на Второй улице у него были свои апартаменты — две комнаты и ванная. В девять утра или позже, убедившись, что отец ушел на работу, а мать за покупками, он вылезал из кровати и, свистнув в переговорное устройство (которое когда-то, будучи еще мальчиком, залил водой), давал понять прислуге на кухне, что можно подавать завтрак. Еду ставили на поднос и кухонным лифтом поднимали к нему на этаж, где горничная, уже занимавшаяся уборкой в одной из спален, заносила поднос в комнату Брока, ставила на мраморный столик и зажигала в спальне газовую горелку. Он неторопливо завтракал, одевался, просматривал почту и к тому времени, когда был готов выйти в город, выкуривал с полдюжины сигарет со сладким махорочным табаком (модными их не назовешь, но стоит сделать хоть одну затяжку — не оторваться). В одиннадцать, с последним ударом часов, Брок отправлялся на прогулку, маршрут которой пролегал на север по Второй улице, затем на юг, по Франт-стрит, вдоль реки, и заканчивался вновь в центре города, в клубе Форт-Пенна, где Брок проводил практически целый день. Завсегдатаем он сделался еще до того, как ему исполнилось двадцать пять; крохотный белый деревянный колышек рядом с именной табличкой, свидетельствующий о том, что член клуба находится в его помещении, появлялся на месте Брока раньше и извлекался из углубления в столе позже, чем у кого бы то ни было. С Ферфаксом, чернокожим привратником с лоснящимся лицом, принимавшим пальто и шляпы и отмечавшим присутствие членов в клубе, Брок обменивался самым беглым приветствием, словно бросая на ходу: «Я здесь, Ферфакс». — «Вижу, мистер Колдуэлл».
Брок просматривал свою корреспонденцию, отвечал, поднявшись в библиотеку, на письма, затем всю первую половину дня играл на бильярде или в вист, а там подтягивались и любители виски. Бар в клубе был маленький, собственно, только стойка; большинство посетителей, приходя после работы, предпочитали устраиваться за столиком. За большими же столами, посреди которых была закреплена «ленивая Сюзанна» — большой вращающийся поднос, — посетителей ждал бесплатный ленч: головка сыра, крекеры, соленые орешки, бублики. Брок всегда усаживался за один и тот же стол, со своими компаньонами по тиру — молодыми членами клуба, которым вовсе не хотелось попасть в компанию стариков. Они бросали жребий, кому сегодня подписывать счет за виски; во второй половине дня Брок возвращался домой, неизменно в компании своих соседей и лучших друзей — Чарли Джея и Данкана Партриджа.
В тех случаях, когда Брок обедал дома, он на час-другой оставался в обществе матери и отца, иногда Грейс, а затем возвращался в клуб поиграть на бильярде или в карты. Отец читал газету или курил сигару, а мать кое-как пыталась завязать разговор. Просила мужа с сыном подержать рейку для измерения ширины новых штор; могла на двадцать минут растянуть обсуждение запасов рубах у Брока; поговорить о письме, полученном от кузины, потерянном зонтике, брате кухарки, которого зажало между вагонами в депо. Надо отдать должное Эмили, она умела легко втянуть слушателей в разговор, который редко касался чего-то иного, кроме домашних дел (после ее смерти Брок как-то сказал сестре: «Мама вроде толковала об одних лишь иголках с нитками да о том, куда очки задевались, но я всегда слушал ее»). Час спустя Брок поднимался и говорил: «Если что, я в клубе». Это была старая семейная шутка: таким образом Брок, еще ребенком, любил подражать отцу. Потом, еще до того, как Брока отдали в школу-интернат, о шутке забыли и не вспоминали до того дня, когда мистеру Колдуэллу пришлось признать свое поражение в борьбе за то, чтобы сделать из сына бизнесмена. Брок неожиданно повторил старую фразу, все засмеялись, атмосфера несколько разрядилась, хотя и сам Брок, и его отец чувствовали в извлеченной из глубин памяти шутке какую-то печальную безысходность. Уходя из дома, он никого не целовал и не желал покойной ночи ни матери, ни отцу, ни Грейс; все делали вид, что Брок идет всего лишь размять ноги, как в то время говорили пожилые люди, отправляясь на угол за сигарой. Но все знали, что Брок уходит до поздней ночи, и все знали, что и тогда он, случается, приходит домой просто потому, что его приносят.
Читать дальше