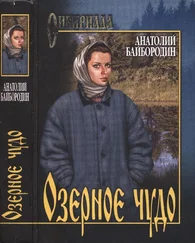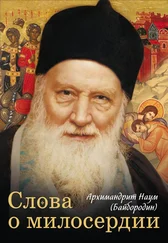Перед самым приездом молодых отец, напившись в дым с рыбзаводскими мужиками, учинил домашнее кино. Пьянел он медленно, смекалистая голова долго не сдавалась хмелю.
— Ему же, мазаю, бочку надо вылакать, чтобы рога в пол уткнул, — ругалась мать, гоноша варево для компании.
Пока еще чуть навеселе, отец, поблескивая хитро-синими глазами, подмигивая даже матери, начал, как обычно, заливать байки и смешные, и грешные, на которые был большой мастак. Ванюшка подсматривал из горенки, сунув нос между плюшевыми шторами, и, навострив уши-лопухи, жадно слушал отцовские потехи-патруски, даже гордясь отцом о такую пору. На всю жизнь осело перед глазами теплое видение: отец, сухой, ловкий, пятерней заправляющий назад гриву волос, а вокруг почтительно кивающие рыбаки. Сердце веселится, и лицо цветет.
После баек отец по привычке начал хвастать, припоминая даже и тюрьму, где на отсидке жилось не хуже, чем на воле, потом — войну, где тоже, вроде бы, не растерялся не в пример иным деревенским катанкам. Здесь отец, похоже, немного завирался, чтобы выказать всю свою бесшабашную ловкость, потому что слишком уж привольно и заманисто, слишком уж утешно-многогрешно смотрелись и лагерная отсидка, и фронтовая жизнь, но мужики слушали складные байки с полным доверием, потому что знали по деревенской жизни ушлость Пети-халуна. Поведал отец, не печалясь о впечатлении, как под конец войны чуть не пропал — это уже в Монголии, когда с товарищами потаскивал черными цыганскими ночами овец из несчитанных монгольских отар, обдирая их в солдатской баньке. Однажды друзья, не разобравшись в темени, приволокли барана-вожака с цветастыми шаманскими тряпочками на рогах. Освежевали старого барана, сгоношили жареху из свеженины, наелись от живота, запивая раздобытым спиртом. Чудом уцелела тогда на плечах буйная отцовская голова, потому что наутро пришли монголы с жалобой, и все раскрылось.
— Да-а, видать, кому война, а Халуну мать родна, — насмешливо оценил старый рыбак, но отец, разгоряченный, подбодренный вниманием молодых рыбаков, не учуял тут горького смешка, и в этих словах чудилась похвала себе.
— Вот ведь, паря, и баран-то был старе поповой собаки, бабушке Будаихе годок — мясо никуда не годное, одни жилы, век не прожевать, — вспоминал отец.
Помянув войну, чокнувшись гранеными стаканами, чтобы, оборони Бог, опять не запалилась, отец начал похваляться рыбацкими снастями: удочки, зимние и летние, сетешки, вентери, корчажки и морды, туго сплетенные из талины, — руки у отца росли откуль положено, мастеровитые, и мало кто в деревне мог похвастать эдакими снастями, хотя все, кроме бурят, считали себя фартовыми рыбаками.
Во время отцовских загулов изба превращалась в проходной двор — пыль столбом, дым коромыслом, не то от таски, не то от пляски – кухню распирали резкие запахи, один шибче другого, да такие въедливые и напористые, что Ванюшка, забежав с вольного воздуха, даже отшатывался к порогу, не в силах пробиться сквозь вонь и чад в горницу. В избе пахло водкой и махрой — не продохнуть, потому что эти запахи копились тут неделями, въедались в стены, к ним обычно добавлялся тяжкий дух проквашенной рыбы, который, навечно впитавшись, дышал от рыбацких фуфаек и брезентовых плащей, — зимой плащи мерзлыми коробами торчали у двери, быгая и, как мерзлое белье, занесенное в тепло, ломаясь и опадая в натекшие лужи. Или кисло воняло сопревшей бараньей овчиной, — значит в гости со степного гурта подворачивал бурят-чабан, или до сонливой слабости в голове дурманил Ванюшку запах бензина и солярки, — а это уже напивался и гортанно храпел прямо за столом к тракторист в промазученной куртке или шофер.
Глядя на ночь, отец напивался в дымину, уже не балагурил, потешая гостей, не хвастал, а заволакивал сидящего напротив сумрачным взглядом, начинал цепляться к словам, спорить, всяко обзываться, что кончалось всегда одинаково, в ночь-полночь, в метель-вьюгу выставлял гостя взашей, даже если тот был из соседней деревни; запирал после него калитку на большой засов, закрывал ставни.
И тогда, перед самым приездом молодых, вытолкав рыбков в тычки, учуя, что те не дадут сдачи, волком-бирюком сидел в морошной кухне, — укрученный фитиль едва шаял в керосиновой лампе, — и поносил последними словами родичей и знакомцев, что являлись в мутнеющие островки памяти из желтоватых пятен, скорбно дремлющих на стене; отца томила непроглядная, как осенний туман, студящая сердце обида на людей, с коими жил бок о бок и которые, будто бы, выходили повинными в том, что сидел он сейчас в сиротливой кухне, пропахшей вином и махрой, за столом, заваленным рыбьими костями, в небогатой, состарившейся избе, у недалекого края своей жизни, от которой, как горько виделось, останутся лишь кучки обсосанных рыбьих голов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)