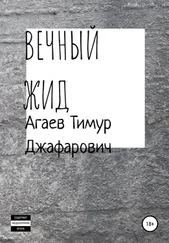Чтиво, состряпанное Загноски, неприлично держать в руках порядочному человеку, но мы, желая до конца разоблачить его, вынуждены, помимо воли, делать это. Так, рассказывая о приходе Обломоффа в Революцию (именно в Революцию, пафосно и с большой буквы называет этот шарлатан хождение Обломоффа по мукам), – рассказывая о революционных идеях Айзека, Загноски нагло клевещет, говоря о том, что для Айзека это была лишь игра, которой он вообще предавался при каждом удобном случае. Что все его изыскания и наблюдения о характере русского народа, а также об особенностях русского православия – всего лишь попытка надавить на наиболее болезненные и наиболее глубинные точки, чтобы иметь максимальный эффект. Что никогда он не собирался сравнивать русскую душу с душой еврейской, и уж тем более находить в них что-то общее. Что все призывы к грядущим русским Янам Гусам и Савонаролам – это попытка привлечь к себе внимание, и не больше. Что даже знаменитое отречение Айзека от православия продиктовано его непомерной гордыней, а необходимого в данном случае обрезания и вовсе не было, поскольку Айзек, якобы, совершенно не переносит боли и крови, и вообще сторонник цельности и завершенности в своем и чужих организмах. Что он не терпит нарушения гармонии, и по этой причине не может резать на части хлеб или рыбу, и вынужден есть их целиком, как бы неудобно и даже опасно это ни было. Что скитания его по миру без друзей и крыши над головой – это скитания не отчаявшегося писателя, а русского Фауста, случайно забредшего в холодную и враждебную ему Европу в погоне за огнедышащим змеем. Что это за змей, автор, естественно, не сообщает, но тут же тонко намекает, что это, возможно, европейские мерзости и пороки, вроде гомосексуализма, наркомании и склонности к однополым бракам. Очень красочно в этой связи автором рисуется Айзек Обломофф, одетый в костюм Русского Витязя, с огромным сверкающим мечом на венецианском карнавале, поражающий всех этих Королей Момо, Европейских Принцесс и Раскрашенных Трансвеститов, от которых, естественно, остаются в итоге рожки да ножки. В целом книга Карло Загноски настолько чудовищна и нелепа, что о ней не было бы смысла и упоминать, если бы она не делала прогнозов относительно дальнейших планов Айзека, осевшего, как известно, на юге Франции, и оборвавшего почти все связи с миром. На этом основании Загноски сообщает, что он видит Айзека эдаким реликтом, эдаким осколком славного литературного и революционного прошлого, потенциал которого совершенно исчерпан, и который не сможет уже ничего написать. Усталый, опустошенный, погруженный в самые тягостные раздумья и воспоминания, потерявший все связи с Россией, кающийся и мечтающий о смерти, Обломофф сидит в своей гостинице-пансионе, не нужный ни себе, ни миру. Иногда он прогуливается с тростью по набережной утренних Канн, и случайные прохожие принимают его за дряхлого старика, идущего на кладбище, чтобы лечь в свою собственную могилу! Какая наглость! И это конец книги об Обломоффе, которую автор назвал честным и объективным исследованием! И это попытка отделить реальность от мифа!? Книга Загноски, безусловно проходимца и шарлатана, сама является возмутительным мифом! Ибо вовсе и не в состоянии полнейшей безнадежности живет в своем пансионе Айзек Обломофф, а в предвкушении нового взрыва страстей и эмоций, новой литературной энергий, которая, как он это чувствует, вот-вот захватит его целиком, подарив новые, еще более грандиозные произведения. И если иногда (и не только утром, но и в обед, и вечером) он гуляет по набережным и улицам Канн, то это всего лишь прогулки энергичного пятидесятилетнего писателя, а не согбенного старца, плетущегося в поисках ближайшего кладбища, на котором он должен лечь в заранее приготовленный ему гроб. Итак, в путь, Айзек Обломофф, в путь, несмотря на все препятствия и всех горе-писак, вообразивших себя истинными биографами!
На Страстном и страсти совсем другие, не то, что на Тверской, или, допустим, на улице Миклухо-Маклая. На Страстном живешь, как во время страстной недели, и не знаешь, что с тобой будет через минуту. Страсти Тушино – это спокойствие и тишина, с довольно большой, впрочем, приправой из сумасшествия и кровопускания; страсти Медведково – это неторопливый вояж с детской коляской в руках, и пивом в ближайшем киоске; страсти Беговой – это азарт и холодный расчет; страсти странной улицы Радужной – это зеленый писательский стол и сумасшедший рассказ о натюрморте, который Господь Бог рисует своими большими штрихами, используя разные подручные средства: людей, младенцев, начинающих писателей и их сумасшедших подруг, взятой напрокат по чужому паспорту первой в твоей жизни машинкой, соседом-алкоголиком, ловящим зеленых чертиков с помощью оголенных электрических проводов, оставленных в коридоре, такой же странной, опухшей от сна и водки соседки, работающей в овощном магазине и уборкой снега на станции «Лосиноостровская» ранним и снежным январским утром; страсти ВДНХ – это пиво втроем, один из которых ее любовник, хотя ты и не придаешь этому совсем никакого значения, потому что беседы с ним на философские темы важнее для тебя этих несущественных житейских потребностей, это тайная калитка, ведущая на улицу Вильгельма Пика, и ректорский зал института кино, где смотришь ты фильмы, о которых не мог даже мечтать, и блоу-ап, ослепивший героя чужого киноэкрана, ослепляет тебя не меньше, чем вспышка сверхновой, ах да, еще, совсем забыл упомянуть завернутую в хрустящий целлофан куклу, которую несешь ты по заснеженной улице Радужной, радужной улице всех твоих дней, по твоим радужным надеждам, ставшим в итоге ничем, съежившимся и скорчившимся, превратившимся в серый, подернутый пленкой пепел, – несешь в подарок жене, своей мадонне с младенцем в белых руках, которая ждет тебя за покрытым снежными узорами окном вашей комнаты; ах, блоу-ап, ах, Рокко с его жестокими братьями, ах, шуршащий прозрачный целлофан, скрывающий нецелованную и абсолютно девственную куклу Барби! – вы ничто перед Страстным Бульваром с его нешуточными страстями! Ибо именно здесь, на этом странном, пропитанном насквозь страстями бульваре, – страстями, о которых даже боязно говорить вслух, потому что все равно никто не поймет и не поверит тебе, – именно здесь, на бульваре своих страстей, ты не раз испытывал на прочность судьбу, и не раз понимал, что испытывать ее – все равно, что играть в рулетку со смертью! Ах, Страстной бульвар, Страстной бульвар, ты знаешь, конечно, о чем я говорю, но ты, как и всегда, будешь молчать и взирать со странной усмешкой на все мои стоны и хрипы!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу