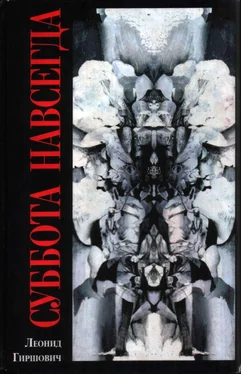Но допустим, что это даже и так, что зрителю даже и есть чему сопереживать, глядя на этот шедевр, гениально воспроизводящий внутренний мир художника средствами гармонии, мелодии и психологии, которые суть цвет, линия, предмет. Последний чуть деформирован. Какова, извиняюсь, процедура, как говорил Набоков, этого сопереживания? Сопереживать можно процессу, в этом процессе пребывая. Синхронность в данном случае важна потому, что (со)переживание само по себе уже процесс и, значит, функция времени. Если угодно, способ времяпрепровождения. Мое вневременное Я приходит в движение, только когда «поперек него» мчатся вагончики; проводить пространственным по вневременному — как проводить смычком вдоль струны и удивляться при этом, что она не звучит.
Человечеству был преподнесен в дар цветок — Великая Живопись. Люди принялись гадать на нем: любит — не любит. Ура! закричали мы, последний лепесток «любит». На этом закончилась история Великой Живописи.
— But pray, Sir, do you not find liking in the arts? — Why, Madam — nothing replenishes my passéisme more suitably.
Этот обмен репликами лишь отчасти стилистическая декорация одного прославленного романа: неожиданно у Бельмонте появилась реальная собеседница. Слова:
Я сижу в темноте, и она не хуже
В комнате, чем темнота снаружи —
вполне относились и к Бельмонте: когда лязг задвижки оповестил о приходе гостей, света извне не проникло ни на квант. Памятуя о местных сапфо, якобы облюбовавших слона, наш шевалье удивился: сапфо была одна, дыхание же выдавало недавние слезы. Тут любопытство взяло верх над осторожностью, и он сказал:
— Не пугайтесь, ради Бога не пугайтесь.
— Мужчина? — Слезы сразу высохли. — С тех пор, как я здесь, я не видела мужчин.
— Увидеть меня вам тоже, пожалуй, не удастся. Во всяком случае, не бойтесь, я вас не трону.
Она расхохоталась.
— И вы не бойтесь, и я вас не трону… и не выдам. В гареме женщины боятся чего угодно и кого угодно, только не мужчин.
«Правда. Педрина не в счет».
— Зато, — продолжала она, — мужчины здесь ходят в трусах.
— Я испанский дворянин, сударыня. Меня зовут шевалье Бельмонте, и испытывать страх — против моих правил.
— Ах, оставьте, шевалье. Мало ли что было против моих правил, пока я не попала сюда. Вы знаете, что будет с вами, если вас схватят? Только не говорите «догадываюсь». Вы не догадываетесь. Как вы сюда проникли, шевалье?
— Это моя тайна. Этим же путем я намерен и выбраться отсюда.
— Вас послал мне Бог! Я хочу с вами. Вы не видите меня, я — красавица.
— Сударыня, здесь все красавицы. И потом, будь вы даже крокодил из ближайшего пруда, я почел бы своим долгом протянуть вам руку помощи — в этом случае огромную деревянную руку, наподобие той, что высовывалась из врат Священного Трибунала, когда снаружи кто-то возглашал тройное покаяние. Теперь все стало понятно: святые отцы воображали, что имеют дело с крокодилом. Но, — продолжал он, — это совершенно невозможно. Я уже и так протягиваю руку помощи троим.
— Ах, будут трое в лодке, не считая собаки, — попробовала она пошутить. — Только не говорите «нет». Я не могу здесь больше оставаться. Я брошусь на бритву Джибрила. Вы не знаете, это злой кастрированный мальчишка, который заставил меня сейчас пятьдесят раз проплыть туда и обратно, а потом лишил сладкого. Не это важно, я могу обойтись и без торта — пусть им подавится эта лабрадорская тварь. Но когда какой-то дискант имеет над тобой власть, как над лягушкой, которую всласть терзает у себя в коробчонке… Возьму и задушу Ларку. И пусть меня тоже задушат. Я ненавижу их всех — ленивые, тупые, безмужикие… Она смотрит на тебя, а в глазах у ней такой Восток, такое «мне жарко», «мне знойно». Ненавижу! Целыми днями выщипывают друг у друга волоски — сказала бы где. И ноют свои песни — ей-ей, колыбельные для змей. Говорят… я слышала… в районе слона есть лаз. Вы им пришли? Ну, миленький кабальеро, подскажите христианке. Не обрекайте вольную валашку…
— Как вы сказали?
— Что?
— Как вы себя назвали?
— Вольной валашкой. Я с Карпат, мой отец, между прочим, был стремянным валашского господаря.
— И вас похитил Валид-инвалид…
— Валид-разбойник.
— Это одно и то же… когда вы с вашим батюшкой направлялись к Мирчу Златко, вашему жениху.
— Вы все знаете?
— На том свете знают все. Нет, это непостижимо! Я веду бой, в котором обречен, утешаюсь лишь сознанием, что противник мой — само Время, и это, когда во сне время ничего не стоит. Мало сказать, в табакерке сна я успеваю увидеть город — я успеваю прожить в нем жизнь, полную событий. А часы показывают, что и мгновенья не проспал. Смиряешься с той из реальностей, за которой последнее слово. Свидетельства памяти не принимаются, вещественных доказательств никаких — они из антивещества и при пробуждении аннигилируются. Мисс Владуц, я думаю, что смогу вам помочь.
Читать дальше