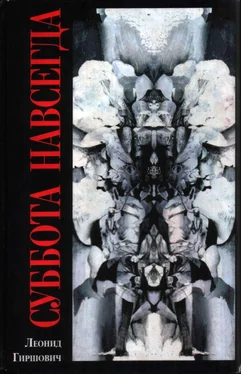— У первого прикола.
— Спеши в свой цветник, садовник! — крикнул капитан Немо вдогонку.
Ливийцы задали пятками такую ливийку — куда-а-а лезгинам со своей лезгинкой. Праздношатавшиеся отшатывались, Осмин, высунувшись из-за занавески, погонял: «Быстрей, быстрей, курва матка! И смотри, не выверни!» — Последнее относилось к ноше, что размашисто болталась под прогибавшимися шестами, существует ведь и такой способ транспортировки людей. А потом еще — словно чечеткой здесь унималась чесотка, босые пятки запрыгали по скользким ступеням первого прикола. Хвала Аллаху — обошлось. Ведь на правоверных, сотворяющих намаз пять раз на дню, как и на правоверных, сотворяющих намаз трижды в день, ни в чем положиться невозможно. В своих пузырем вздувающихся портках они сперва наврут тебе с три короба, а потом начнут скрести в затылке. И наконец, следуя тайной суфийской мудрости («сила есть, ума не надо»), все переломают, перепортят, а в придачу еще и назюзюкаются, что твои этруски.
* * *
Для последних же похмелье обернулось теми самыми цепями, в которые им не удалось заковать Бельмонте. Закатив на радостях великую попойку, тирренские морские разбойники наутро осознали, сколь переменчива судьба. Теперь они были живым товаром, которым владел этот чертов Ален Делон — а они еще рассчитывали сбыть его какому-нибудь богатому развратнику сотни за полторы (то есть по фунту стерлингов за фунт живого веса). Прикованные попарно к веслам, они считали и пересчитывали позвонки сидящих впереди, потому что все время выходило по-разному. «Мудрый» кормчий, признавший в Бельмонте самого Диониса, трепетал, как и полагается смертному перед лицом божества.
— Скажи, сын Семелы, ты еще меня не разлюбил? — хныкал этот выживший из ума душегуб.
— Нет, я же тебе этрусским языком сказал, чтобы ты не боялся — что я тебя полюбил. Сколько тебе еще можно повторять: «Не бойся! Я тебя полюбил!»
— А ты, сын Семелы, повторяй, повторяй. Не откроешь ли ты, что ждет моих бывших товарищей?
— В Тетуане я их поставлю на комиссию, скажу: «Сколько не жалко».
— Эй, вы слышали, пропойцы? А ведь я говорил вам. Послушались бы меня, были бы как вольные пташки, да еще обласканные бессмертным богом… Сын Семелы, но ведь ты и вправду меня не разлюбил?
Вот какое плавание было у Бельмонте. В контрапункт безостановочному нытью кормчего его не покидало ощущение, что разбойники гребут, как шамкают — еле-еле шевеля веслами. Он не обломил прутьев об их хребты только потому, что был человеком будущего. Нет-нет, о плавании с Наксоса в Тетуан у него сохранятся воспоминания не лучше, чем у Педрильо.
— Когда, ты говоришь, в Тетуане открывается ярмарка?
Кормчий смотрел на него, как лель на харит — абсолютно собачьими глазами. Бельмонте переспросил.
— Ярмарка? Ах, в Тетуане… Если говорить по совести, то она там никогда и не закрывается. Она, помимо того, что ежегодная, еще и ежемесячная… и даже ежедневная… О сын убитой током Семелы! Ты напрасно так уж торопишься. Свой товар ты сбудешь с рук всегда, в любой день, кроме пятницы. А сегодня у нас только суббота.
— Я сейчас тебя убью током!
— О горе! Сын Семелы меня разлюбил…
Каждый раз, когда вдали мелькали паруса, а такое случалось всегда вместо полдника, у Бельмонте вырывался вздох: «Констанция!» Обыкновение видеть паруса вместо полдника было ничем иным как фата-морганой на почве голода.
— О Констанция… — шептал он, глотая слюнки, при виде паруса, одиноко белевшего в голубом просторе моря.
Однажды мудрый кормчий вскричал, простирая правую руку вперед, тогда как левой держал кормило:
— Земля! Я вижу землю!
Но это была только полоска тени на воде, ее отбрасывало грозовое облако. И мнимая суша, и реальное облако быстро разрастались. Надул колючие щеки Борей, заштормило. Туча вскоре затмила лучезарное светило, в глубине ее засверкали штыки молний. Полки наступали. Все оглушительней лопались обручи, стягивавшие небесную бочку, пока наконец вода из нее не устремилась неисчислимыми струями вниз, к морю; а то, словно поседевшая в разлуке мать, раскрывало и раскрывало родимые свои объятия. Валы вздымались до небес, корабль взлетал Барышниковым и падал — им же. Всё, связки вроде бы порваны… При этом этрусские матросы разом вскрикивали. Как на одре болезни врач — себе уже не врач, как заплечных дел мастер — отнюдь еще не мастер выдерживать пытку, так же и ужас обреченных морской пучине матросов не знает скидок на профессионализм.
Читать дальше