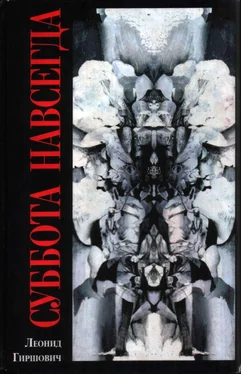— Если я правильно понял хустисию, хустисия желал бы знать — вот таких, пергаментных, на которых что-то написано? — проговорил младший в семье.
— Вы совершенно правильно поняли, любезнейший.
— Это писчая бумага. В отличие от простой и промокательной, ее у нас немного. Она не пропускает масел и жиров, и мы решили приманивать ею благородных покупателей.
— И давно вы это решили?
— Мы это решили совсем недавно, хустисия. Только после того, как сверток доставлен был в пирожковую «Гандуль».
«Какую гандуль? Пирожковую, говоришь, гандуль? Пирожковая бандура, может быть?» От раздражения в голове у хустисии роилась всякая хря, но нельзя… нельзя… И он с благожелательным видом продолжал пирожковую кадриль.
— А не затруднит ли вас припомнить, сэр, когда именно вы вступили во владение этой изумительной оберточной бумагой?
— Нет ничего проще, хустисия, поскольку было это нынче утром. Но не раньше, чем нам сделалось известно, что сеньор лиценциат пал от рук убийц. Нам чужого, хустисия, не нужно. Но от того, что нам принадлежит по праву, мы тоже отказываться не намерены.
И все одобрительно закивали головами: «От своего? Не-е…»
— А позвольте спросить, при чем тут сеньор лиценциат, царство ему небесное?
Растерянность. Хустисия повторил — по форме еще мягко, по существу же весьма жестко — адресуясь ко всем:
— Я не совсем понимаю, любезнейшие, при чем тут лиценциат Видриера?
— Дык его ж бумага-то… его ж, — заговорили братья и сестры разом.
— Ша! Как это попало сюда?
— Сеньор лиценциат передал нам вчера вечером… сверток… на недолгое хранение, пообещав забрать с рассветом. А когда такая уважаемая в городе персона, как сеньор лиценциат, просит о совершенно необременительном одолжении…
— Что? Видриера был здесь вчера вечером, и вы молчите? О, вы все не так просты, как кажетесь.
— Помилуйте, хустисия. Я полагал, что Справедливости известно все.
— Ничего мне не известно — рассказывай, милейший, рассказывай. Значит, пришел к вам Видриера…
— Значит, вчера вечером нас посетил сеньор лиценциат Видриера. По своему обыкновению он остался стоять посреди улицы, призывая именем Господа кого-нибудь из нас. Я вышел из дому и приблизился к нему, насколько это позволяла его мнительность. «Сеньор пирожник, — сказал он. — Клянусь спасением души, печенье вашей выпечки не имеет себе равных во всей Кастилии». На это я отвечал: «Удостоиться похвалы вашей милости тем более лестно, что сеньор лиценциат не больно-то на нее щедр, да и не ест мучного». — «Скромность повара сгубила — знаете такую поговорку?» Я не знал. «Ну как же, скромность повара, а жадность фраера. Поэтому я никогда не жадничаю, а вы никогда не скромничайте». Я посетовал: дескать, не вполне понимаю, что его милость имеет в виду. «Глупец, радуйтесь. Понять — значит уподобиться. Посмотрите на меня, вы хотите уподобиться мне? Хотите быть письмом, запечатанным в бутылку, которую вот-вот швырнет на прибрежные скалы, и она разобьется вдребезги? А слова размоет?.. У-у-у… — он изобразил морской ветер, шум прибоя. — Ах нет? Тогда благодарите Всевышнего, что вам не дано меня понять». Я так мысленно и поступил, вознес хвалу Господу. Он же продолжал: «Но и без того, чтоб меня понимать, вы можете оказать мне услугу, заслужив этим мою признательность и мое расположение. А это не шутка. Вот здесь, — он достал из-за пазухи сверток, перевязанный розовым сапожным шнурком, — лежат бумаги, которые я прошу вас подержать у себя до утра. Пирожковая „Гандуль“ пользуется хорошей репутацией, а я ищу надежный ночлег для этих документов, во всяком случае, понадежней того, что ожидает меня сегодня. Ваше гостеприимство будет вознаграждено. Ваши пироги и ваше печенье я упомяну в своих проповедях, послушать которые, как вам известно, стекается множество людей, включая „черных отцов“». Он положил на землю свой сверток и отступил на несколько шагов. Я поднял его со словами: «В нашей кладовой места хватит и на десять таких — главное, чтоб ваша милость не забыла его потом забрать». — «На сей счет можете не беспокоиться, любезный. А забуду — будет вам оберточная бумага. На кулечке письмена — это красиво. Высокородные господа обожают читать записки, особливо не им предназначенные». Узнав о несчастье с сеньором лиценциатом, мы подумали, что вправе воспользоваться его идеей.
Альгуасил помолчал, помолчал — да как рявк:
— Нет, не вправе! Принести все сюда, все, что он вам оставил! Отныне это собственность испанского короля.
Читать дальше