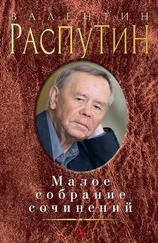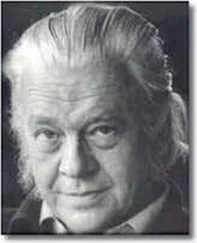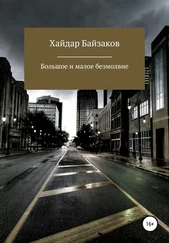В очередном ящике попалось то, что нужно, Елеонора с довольным видом это схватила и повернулась к Лушке:
— Ну, и чего?
— Я вчера… Это от неожиданности. Я ведь не знала.
— И чего?
Действительно — чего? Чего она тут пришла вымучивать? Чего ей теперь сказать? Что Лушка ее любит? Что жалеет?..
Маш, ну, ты же сказала, чтобы я к ней как к тебе. Вот я и пришла, а у меня язык не поворачивается.
— Эк тебя корежит! — удовлетворенно усмехнулась Елеонора.
— А чего вы радуетесь?
— Праздник у меня, вот и радуюсь. А тебе что — не нравится, когда радуются?
— Было бы отчего…
— Ты мне мораль не читай. Соплячка еще. Со своими делами разбирайся.
— Я и пришла, потому что хочу разобраться.
— Да ну?
— Я прощения попросить, если вчера вас обидела.
— Ну и попроси.
— Вот я прошу.
— Так не просят. Так в харю харкают.
— А как надо?
— На мировую с бутылкой идут. Или с подарком.
— Если только с меня что-нибудь.
— Без штанов тебя оставить, что ль? Отдашь штаны-то?
— Пожалуйста.
— Ну-ка, пощупаю… Фу, жилистая какая! Я-то покруглее… Ну, снимай.
Лушка стянула трико.
— Ничего, постираю, да на кусочки — для какой ни то надобности сойдет. Что задумалась? Жалко, что ли?
— Нет. Не жалко. Мне ведь их тоже подарили Христа ради.
— Неуж побиралась?
— Нет. Они добровольно.
— Так и ты добровольно. Ну, всё. Иди теперь.
— Спасибо, что простили.
— А я и не простила.
— Всё равно спасибо.
— За что это?
— Да вот попробовать хотела. Как это — щеки подставлять. Думала — не смогу. А оно ничего, можно. Только проку не вижу.
— Ну, прок — он такой. Прок всегда кому-нибудь одному.
— Одному не бывает. Бывает каждому свой.
— Так чего лучше? Всем сестрам по серьгам.
— Я тут вчера книжку забыла, вы не видели?
— Букварь, что ли? Тоже мне книжка.
— Чужая, мне отдать надо.
— Обойдутся. А мне на бигуди сойдет.
— Тогда я скажу главному, что книга у вас.
— Мне-то что. Говори кому хочешь.
— До свидания.
— Давай, давай.
— До свидания, — повторила Лушка и не двинулась с места.
Елеонора, помусолив огрызок добытого в чьем-то ящике косметического карандаша, уселась на чью-то постель и, неудобно изогнувшись, чтобы можно было использовать никелированную перекладину кровати в качестве зеркала, стала тщательно вырисовывать себе брови. Она сосредоточенно трудилась, часто отстранялась, проверяя впечатление расстоянием, приближая лицо к изогнутой зеркальной поверхности то слева, то справа, высокомерно вскидывая подбородок и тут же пригибая его к плечу, что, вероятно, означало кокетство и привлекательность.
На Лушку она не обращала внимания. А Лушка присутствовала на похоронах.
Дужки нарисованных бровей, симметричные, как ручки двух ведер, внезапно явившиеся на недавно привычном и сосредоточенном, не умеющем улыбаться лице, были чудовищны, они были торжествующим завершением уничтожения прежнего человека, ибо в этом лице Марьи уже не могло быть, — лицо было плоско, неумно и хищно. В нем устроилась обжираловка. Лицо перемалывало Марьины миры, все прошлые и будущие времена и всех отысканных богов. Лушка всё медлила. И презирала себя за дальнейшее, потому что знала, как оно ничтожно. Но она не могла уйти просто так. Она сказала:
— Вас никогда не приглашали на работу в девятиэтажный дом?
— Кем? — поинтересовалась Елеонора.
— Мусоропроводом, — сладко улыбнулась Лушка.
* * *
Она привалилась к двери спиной, словно пытаясь запечатать выход зародившемуся позади чудовищу и собираясь позвать на помощь.
В коридоре бездельно слонялись, бездельно сидели и зачем-то стояли то ли здоровые, то ли больные. Они отгораживались друг от друга своими навязчивыми идеями и своей исключительной значимостью. Они не решились стать самыми здоровыми и теперь хотели утвердиться как самые больные. Сочувствуя им еще вчера, Лушка вдруг подумала, что удерживает дверь напрасно, что Елеонора уже просочилась в какую-то щель и внедрилась, как в Марью, во всех, кто на стульях и кто вдоль стен, и они отказались от себя и не заметили разницы. Лушка видела, как им нравится, чтобы их лечили, и как значимы они своей болезнью. Почти никто из них не стремился к здоровью, они делают себя проводниками убогих кошмаров, сладостно выпуская их на волю для доказательства своей недужности, они комфортно расположились в своей душевной и телесной лени, выслуживая капризное внимание их лечащих, тоже ленивых и тоже ни за что не отвечающих, потому что отвечать не перед кем, а перед собой — утомительно, если отвечать перед собой, то придется долго каяться и что-то менять, и заранее известно, что ничего не найдешь и окажешься в тупике. И нужно быть Марьей, чтобы прорубить в тупике окно с видом на нездешний пейзаж.
Читать дальше