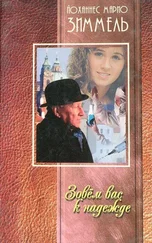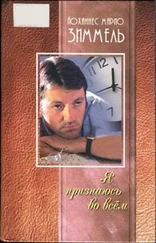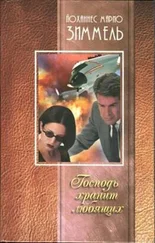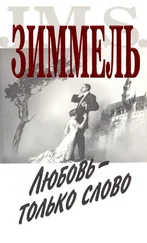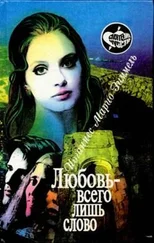— Наши люди в Ливии сообщают, что Волкова непрерывно допрашивают. Он вне себя от бешенства и страха, а допрашивающие его истолковывают это как доказательство вины.
— Попал же он в переделку, — говорит Дымшиц и смеется. Что за мир, думает Миша. Дымшиц смеется. Он ведь действительно попал в беду, этот Волков. С другой стороны, он безо всяких угрызений совести построил бы свою установку и сделал возможным создание новой бомбы, которая убьет миллионы людей. Да, но если бы его заполучили израильтяне, он построил бы новую бомбу для израильтян, и что тогда? Несчастные люди? Единственные несчастные люди, думает Миша, это те, у которых есть совесть или, скажем так, сострадание к своим братьям. Много ли таких людей на свете? — думает Миша и сопит, потому что мир устроен несправедливо.
— Миша! — Это Табор громко обратился к нему. Миша возвращается к действительности.
— Да, Дов? Что ты хочешь?
— Ты меня не слышал?
— Нет, я… я обдумывал кое-что… кое-что, связанное со строительством, — лжет Миша.
— Я сказал, что Генеральный штаб спрашивает — можем ли мы уже сейчас натянуть маскировочную сетку. Это было бы важным аргументом для иностранных агентов и ускорило бы дело Волкова, — Дымшиц снова смеется.
Миша думает: то есть, ты имеешь в виду, Дов, что они скорее бы прикончили Волкова. Каждый человек — это целый мир, размышляет он, путаясь в мыслях. Сказано в вашей Торе. И там сказано: «Кто убивает человека, тот разрушает целый мир.» Ах, думает Миша печально. Это сказано в Торе, Тора — очень старая книга. Возможно, так было в давно ушедшие времена, может быть, этого никогда не было, может быть, это всегда была только красивая фраза.
— Да, — говорит Миша, — мы уже теперь можем натянуть маскировочную сетку над котлованом. Это, конечно, затруднит работы, но поставить маскировку, конечно, можно.
— Тогда да здравствует маскировочная сетка! — кричит Дымшиц.
Хищный зверь без меха, человек… Все! Хватит! Нельзя постоянно думать об этом!
Неделю спустя стройплощадка уже скрыта под большим сетчатым куполом. Инфракрасная и обычная визуальная защита обеспечена. Тяжелые грузовики днем и ночью въезжают под купол и выезжают оттуда, работа идет круглосуточно.
Табор получает указание показывать Мишу — под строжайшей охраной — общественности, сперва на территории Димоны, потом в Беэр-Шеве. Согласно сообщениям Моссада, окрестности Беэр-Шевы кишат людьми из различных спецслужб, большинство их из Ирака и Ливии, но есть и из ЦРУ, и из ФСБ.
Однажды во время ежедневного утреннего совещания они обсуждают планы на предстоящий день. Звонит телефон. Дымшиц снимает трубку и называет себя. Затем он передает трубку Руфи.
— Тебя, — говорит он. — Из психиатрической клиники в Сороке. По поводу Греты Берг.
Руфь некоторое время слушает, а затем молча вешает трубку.
— Что с Гретой? — волнуется Дымшиц, поправляя очки.
— Все кончено, — говорит Руфь.
— Она умерла? — спрашивает Табор.
— Нет, но доктор Гольдштейн говорит, она хочет с нами попрощаться.
— Что значит — попрощаться? — спрашивает Хаим Дымшиц. Все присутствующие, кроме Миши, долгие годы были дружны с Израилем Бергом, любили его и его жену Грету. Не раз бывали в Сороке, когда она проходила там курс лечения.
— Кажется, говорит доктор Гольдштейн, Грета хочет проститься с нами, чтобы окончательно уединиться от внешнего мира.
— О, черт возьми! — ворчит Табор. — Проклятье!
— Ты должен пойти с нами, Миша, — говорит Руфь.
— Я? — Миша пугается. — Но ее мужа застрелили вместо меня!
— Доктор Гольдштейн говорит, что Грета тебя тоже хочет видеть.
— Ну, тогда я, конечно, пойду… — соглашается Миша, но на душе у него скребут кошки.
И вот бронированные машины едут из Димоны в Беэр-Шеву, въезжают в город через Турецкий мост, мимо колодца Авраама (того, что остался со времен турок) и городского музея, открытого в бывшей мечети. Они едут до Дерек-Элат, где Грета и Израиль Берг жили столько лет, потом выезжают на главную улицу старого города, Ха-Азмаут, по ней на север, мимо ратуши и большого парка, к медицинскому центру Сорока, расположенному ниже университета Бен-Гурион. Здесь все оцеплено солдатами.
Миша и остальные выбираются из машины и поднимаются в белое здание отделения психиатрии. Здесь у дверей тоже стоят солдаты.
Доктор Гольдштейн, невысокий и худощавый мужчина лет за пятьдесят, ожидает их.
— Прошу! — говорит он и идет сам впереди четверых в больничную палату, большую и светлую, где стоят шкаф с комодом, окна в парк открыты, на пальмах поют птицы, светит солнце, день чудесный, но на окнах решетки.
Читать дальше