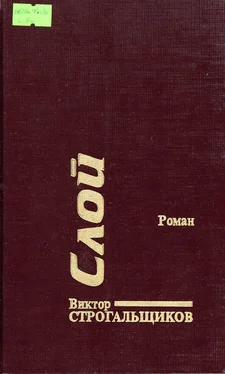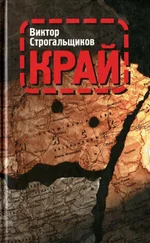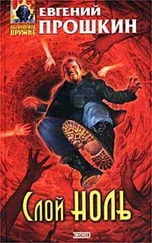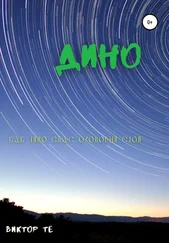— Вы с какого года воевали? — спросил Кротов больше из вежливости.
— С сорок третьего, с весны. Немец еще крепкий был. Да он до конца крепкий был, но уже не так. Хуже всего в Венгрии было, под Балатоном. Положили там наших несусветно.
— А я в Германии служил, в Тюрингии, — сказал Кротов. — Тюрингию американцы брали, боёв почти не было, все чистенько сохранилось. Наш полк стоял в кайзеровских казармах — стены толстенные, потолки высокие…
— Умели немцы, — усмехнулся старик. — Не, я в Германию не попал. Мы потом Вену брали, там и закончили. Хороший город, и народ неплохой. Тогда австрияки фрицев сильно не любили. Как сейчас — не знаю, после войны никогда за границей не был. Да и вообще нигде не был. Не, правда, в Гомеле, в Белоруссии, послужил немного. Там Сашка и родился, кстати…
Разговор скольцевался. Кротов глядел сквозь влажное стекло, как из земли не часто вылетает ковш лопаты. Потом на бруствер выбрался Лузгин, потянул за черенок из ямы Валерку, поскользнулся, и Комиссаров подскочил, схватился за черенок рядом… Три скрюченных силуэта бродили вокруг могилы, махали руками, что-то показывая или доказывая друг другу. И Кротов с расстояния, как бы отделившись на мгновение душою от суетящихся друзей, почувствовал к ним так редко посещавшее его в последнее время чувство любви и жалости — к бретёру Лузгину, никакому Валерке Северцеву, бичеватому гордецу Славке.
Будто прочтя его мысли, старик вдруг произнес:
— Ты, Сережа, на меня не обижайся. И ребята твои пусть тоже не обижаются. Меня уже не переделаешь, я этой вашей жизни совсем не понимаю. И никогда не пойму, это точно. Не нравится мне она. Сколько лет жили, воевали, работали, и вроде как зря.
— Ну, вы не правы, — хотел вступить Кротов, но старик остановил его, положив руку на колено.
— Нет, Сережа, так оно и есть. Вы, наверное, думаете, что старики на вас, молодых, значит, злобу затаили, что вы всё порушили… Ну, обида есть, не скрою, но это чепуха — обида-то. Нам за вас страшно становится. Не знаете ведь, куда идете, зачем живете. Ну, ладно — вы. Вы уже пожили немного. А вот три сына александровых — с ними-то что будет? Ничего хорошего с ними не будет, я сердцем чувствую.
— Вы меня, конечно, простите, батя, — уже в сердцах сказал Кротов, — но я знаю точно, чего с ними не будет. Концлагерей не будет, «чеки» вашей по ночам не будет и дураков горкомовских над ними тоже не будет.
— А что же будет-то?
— Свобода будет, батя. Это главное. Остальное всё как-нибудь устроится.
— Э, милый, — устало сказал старик Дмитриев, — где же ты свободу-то видел? И чем твои бандиты лучше, как ты говоришь, нашей «чеки»?
— А тем, что бандита я сам могу пристрелить.
В дверь толкнулся подошедший Лузгин.
— Э, батя, принимай работу!
От долбежа и водки круглое лузгинское лицо раскраснелось, но ввалившиеся глаза были трезвыми. Втроем они дошли до ямы, старик оглядел ее, одобрительно кивнул, потом сказал:
— Вот здесь расчистить надо, на тубаретках гроб поставим. А так — хорошо. Спасибо, парни, что уважили старика. И от матери вам спасибо. Пусть сын рядом лежит, если уж так получилось…
— О чем вы, батя, — сказал Лузгин. — Какое тут спасибо, мы же Сашкины друзья. Если бы я или Кротов помер, он бы первый прибежал.
— Перекрестись! — строго сказал старик Дмитриев. — Нельзя так говорить про живых, беду накличешь. Перекрестись!
Вовка Лузгин пожал плечами, но щепотью себя вперекрест все-таки обмахнул. Кротов глянул на часы: почти два, скоро выедут.
— Надо бы кому-нибудь к воротам пойти, встретить.
— А пошли все, чего тут торчать, — сказал Лузгин. — Попить бы чего, глотка сохнет.
— Может, еще выпьете? — спросил старик.
— Выпьем, батя, — сказал Кротов, — и не раз выпьем, но позже.
Они, как могли, отряхнули от глины одежду и обувь. Кротов снял валенки и комбинезон, забросил в багажник. «Как там в морге всё прошло? — подумал он. — Без сбоев?». Он беспокоился, поедет ли «риусовский» катафалк на чужое кладбище, и вообще, не забудет ли что-нибудь из важных похоронных мелочей оставшийся в городе за старшего начальник агентства, теперь уже Сашкиного, Епифанов. Тот был серьезным мужиком, умел командовать, но опыта похоронного почти не имел, и Кротов боялся, что придирчиво зоркие старики и старухи начнут тихо выговаривать потом, что и где было сделано не так, и будет неловко перед сашкиной родней, что не смогли организовать похороны по-людски.
Кротов вспомнил, как однажды чуть не похоронили человека со связанными руками и ногами — благо, кто-то подсказал вовремя, нашли вязки под покрывалом и разрезали. А одну журналистку-пенсионерку закопали без нижнего белья, в одном платье на голое тело — забыли в суматохе принести в морг на одевание, и морговская тетка заметила это и сказала. Все растерялись, но выручила та же тетка: посоветовала назавтра подхоронить белье в могильный холм — это разрешалось, по теткиным словам. Так и сделали, но родственникам о конфузе сказать побоялись, взяли грех себе на душу.
Читать дальше