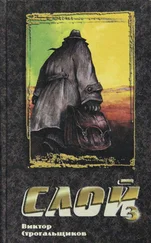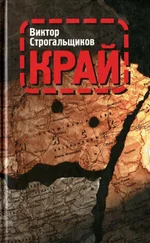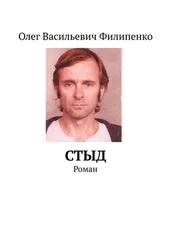Утром в палату влетела медсестра, бросилась к окну, раздернула шторы. «Нет, вы смотрите, смотрите!» — воскликнула она, привставая на цыпочки и поправляя на груди халатик. Лузгин и так уже смотрел — на гладкие колени, мягкий изгиб спины, курносый носик в профиль — и слушал рев моторов за окном. Черт, надо позвонить, который уже день прошел, совсем башка дырявой стала, так вот же сотовый лежит, сейчас уйдет эта пампушка, которая весьма, надо сказать, весьма, и надо позвонить, все рассказать и извиниться.
— Нет, вы смотрите! — снова закричала медсестра. Лузгин сказал:
— Я это уже видел.
18
Зал был большой и зябкий, с узорчатым мраморным полом и куполообразным потолком разноцветного стекла, и представлялось, что сидишь в каком-нибудь католическом соборе. Место в первом ряду, где устроили родственников, ему досталось с краю, а не рядом с женой, как того, наверное, требовали ритуальные приличия, и он был этим неприятно озабочен, зато в любой момент мог потихоньку выйти покурить, не привлекая к себе укоризненных или вопрошающих взглядов. В зале играла негромкая скучная музыка, но даже она, казалось, умерила и без того чуть слышное свое дыхание, когда появился президент нефтяной компании «Сибнефтепром» Эдуард Русланович Агамалов. Он постоял секунд тридцать в положенном месте, вытянув руки по швам и глядя в лицо умершему человеку, затем подошел к родне. Агамалов по очереди наклонялся к сидящим, обнимал их за плечи и что-то говорил на ухо. Ряд был длинный, и после Лузгина уже располагались кто хотел — на Лузгине родня кончалась, но Агамалов, видимо, решил, что еще раньше, и последней, кому он оказал внимание, оказалась приехавшая сегодня утром из Новосибирска Тамарина тетка, младшая сестра Нины Никитичны, сидевшая за два стула от Лузгина. Агамалов распрямился, вздохнул со значением и размеренным шагом направился к выходу. В это время Лузгин, сидевший нога на ногу, их переменил — уж больно быстро затекали, и Агамалов краем глаза уловил движение, повернул голову и узнал Лузгина. Почти споткнувшись, «генерал» остановился и направился к нему, на ходу протягивая руку.
Лузгин от неожиданности встал. Неправда: потому и встал, что ждал и был разочарован, когда Агамалов закончил на тетке и до него не добрался.
— Сочувствую вам, — проговорил Агамалов, нахмурив красивые южные брови. — Примите мои соболезнования. И вот еще что… — Он слегка притянул Лузгина к себе и повлек в сторону выхода, левой рукой чуть касаясь лузгинской спины. — Сейчас в семье будет трудное время. Я знаю, что это такое, я сам… — Он по-восточному прижал ладонь к сердцу. — Поддержите их как мужчина. Вы писатель, мудрый человек, вы найдете слова. И заканчивайте вашу книгу. Я слежу, слежу… — Агамалов поднял палец и позволил себе улыбнуться. — Если что, звоните, вас соединят. До свидания.
Как-то сам собою, по инерции, Лузгин проследовал за ним к дверям, постепенно увеличивая дистанцию, вышел на крыльцо, полез в карман за сигаретами. Он смотрел, как президент компании легко сбежал вниз по ступенькам и скрылся в недрах лимузина, сразу рванувшего с места, подняв снежную пыль и оставив легкое облачко зимнего выхлопа. Как же он нравился в эту минуту Лузгину — молодой, ухоженный, богатый, властный, одним прикосновением своим на публике способный, пусть на время, сделать любого человека куда значительнее, чем он есть на самом деле. Последнее Лузгин тут же отметил на себе: из дверей то и дело неспешно, задумчиво, как это и положено на прощании с умершим, выходили разные незнакомые Лузгину люди, и все они, пока Лузгин курил, приветливо кивали ему или кланялись. В который уже раз — третий, боже, третий! — за эти северные месяцы Агамалов по какой-то одному ему ведомой причине одарял Лузгина крошечной веточкой от пышного древа своего величия.
Когда он вернулся в траурный зал, его немедля оприходовал Боренька Пацаев и в дюжине шагов от постамента довольно громко забубнил, что есть команда поработать с имиджем Хозяина, особенно по части меценатства. «Ты бы зашел, подключился, — бубнил Боренька, — а то швыряем деньги, а системы нет, вот и толку маловато. Ты же умный, зайди завтра в пять…». По лицам сидящих и стоящих невдалеке людей Лузгин понимал, что они слышат их неуместный разговор, но не было в этих лицах осуждения: раз говорят — значит, имеют право, и это право дано Хозяином, никак не ниже, и есть такая верховая жизнь, такие важные дела, что и в присутствии покойника их надобно и можно обсуждать.
Читать дальше