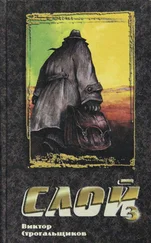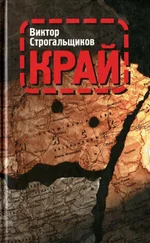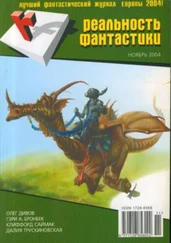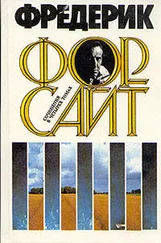Тот молчит и размышляет, потом тихо бормочет: «Давай».
Первым делом я снимаю брюки и подштанники. Белье у меня летнее, полк на зимнее обмундирование еще не перешел, потому и форма на мне хэбэшная, а не пэша, не полушерстяная, как будет с ноября. Понизу все мокрое. Кручу и отжимаю, надеваю снова, закатываю мокрое наверх. С ногами надо что-то делать. Что было сил растираю руками ступни, но ладони у меня ледяные от воды. Снимаю гимнастерку, потом нательную рубаху, кутаю рубахой ноги и снова растираю. Мерзнет спина, хоть я и надел гимнастерку обратно. И тут замечаю, что койку мне не отомкнули, вот же сука-выводной... Может, забыл? Может, я его сбил своей просьбой насчет сушилки? Но что-то мне подсказывает: стучаться в дверь и звать выводного не стоит. Соскальзываю с табуретки на пол, еложу по нему спеленутыми ногами. Конец рубашке, да ничего, каптерщик Ара выдаст новую, у него их много. А вот и проволочка моя любимая, лежит себе и ждет меня у стеночки под койкой. Легла прямо в ложбинку, где стена примыкает к полу, и швабра нарядчика ее не взяла. Достаю из кармана сестрицу, соединяю вместе должным образом, дышу на пальцы, чтоб согрелись, втыкаю отмычку в замок. Слегка развожу торчащие из скважины усики, шевелю отмычкой внутри, и замок мягонько подается. Вот он, проклятый, лежит у меня на ладони. Опускаю на шарнирах койку, выдвигаю опорные ножки, сажусь и любуюсь замком. Защелкиваю и открываю его снова. Проще пареной репы, как говорит моя бабушка. Никогда не ел пареной репы, и как ее парят – не знаю. Просовываю дужку замка в кольцо на стене и защелкиваю. Замок висит, как ему и положено ночью. Ложусь на койку лицом к стене, пробую прикинуть, сколько же осталось до подъема. Под погоном у меня таятся последняя летюхина сигарета, две спички и кусочек коробковой чиркалки. Утром Витенька еще подбросит, экономить нечего. Курю лежа, стряхиваю пепел на ладонь и раздуваю его по стене. На всякий случай половиночку бычкую и прячу опять под погон – привычка губаря. Есть уже не хочется, а попить я в сортире успел. Надо спать, надо обязательно постараться заснуть, даже если стучат зубы и ноги сводит судорогой. Умом я понимаю, что эдак окончательно замерзну, что надо двигаться, качаться, согреть мышцы, и тогда они согреют кости, и легкие согреют, и желудок, где перекатывается ледяная вода, но ничего такого делать я не стану, потому что не хочу и не могу. Замерзну так замерзну, лишь бы уснуть. Мне абсолютно все равно, что со мной будет, я хочу отрубиться и так исчезнуть отсюда.
Зачем я дернул в эту самоволку? Денег мне уже не надо, больше одного чемодана вывезти не дадут, да и тот обшмонают трижды: в полку, в дивизии и на армейском сборном пункте. Говорят, хуже всего шмонают в дивизии. Берут из чемодана, что хотят, но не больше двух вещей с солдата – такие в дивизии нормы приличия. А если залупнешься, говорят, то будет еще хуже. Начнут считать твою солдатскую зарплату, складывать ее и вычитать положенные траты на подшивку, зубную пасту и прочую хурду-мурду. Потом проверят ценники на шмотках (без ценника шмотка считается краденой) и спросят: а где ты, братец, деньги взял на барахло? Баланс не сходится, рисуем протокол... Короче, никакого смысла залупаться. Дойчмарки вывозить? Шмонают солдат качественно, обязательно найдут и заберут, еще спасибо скажешь, что без протокола. Да и опасно в Союзе с валютой, там за нее в тюрьму сажают. Выходит, никакого практического смысла суетиться не было. Тогда зачем пошел? Ну как за чем – за деньгами. Потому что денег много не бывает, ты это уже понял, и сам процесс добычи денег увлек тебя и стал привычен. До армии ты даже не догадывался, как это интересно: делать деньги. Студенческие стройотряды в счет не идут, как и лабанье на танцульках – какие это деньги? Это зарплата, пусть даже левая, но все-таки зарплата: ты вкалываешь, тебе платят. А здесь совсем другое: ты платишь себе сам. По дембелю в Союзе я снова сяду на зарплату, как все вокруг: куда я денусь, вариантов нет. И черт с ним. Я и сейчас готов отдать свой толстый чемодан, готов сдать Витеньке наш синдикатовский общак, только бы мне разрешили спокойно дослужить до дембеля, сесть в поезд и вернуться домой. Но хрен я им чего отдам. И не от жадности, здесь ею и не пахнет. Но как мне холодно, как же мне холодно, мама...
Снег у ворот контрольно-пропускного пункта уже размел наряд, однако на газонах он лежит нетронутый, ровный, и я вспоминаю Союз. В южной Германии минус случается редко. Зато когда случается, из воздуха вымораживается всем надоевшая сырость, и дышится так хорошо, знакомо, по-домашнему. Я курю, спрятавшись за щит с картинками позиций строевого шага – здесь хоть и госпиталь, но некий порядок наличествует. Курю и посматриваю в сторону ворот, потому что из полка должна прибыть машина и привезти Валерку Спивака. Как я устроил его вызов в госпиталь – отдельная песня, при случае Валерке расскажу, когда похвастаться захочется. Оглядываюсь на здание местного клуба: дым над трубой моей каптерки едва виден, надо будет уголька подбросить по возвращении. В клубе, как и везде, центральное отопление – кроме мансарды под крышей, где стоит старая немецкая печь и куда каждое утро я таскаю уголь ведрами.
Читать дальше